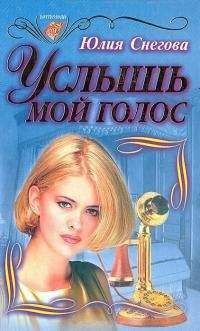— Начинай! — Я вскидываюсь, хотя ватные ноги подкашиваются. — Только побыстрее, я спешу…
— Я тебя люблю, — перебивает он и не моргая смотрит мне в глаза.
Шансов соврать и выдержать его горящий ненавистью взгляд просто нет. Подошвы отрываются от земли, я вот-вот взлечу… но трость, скрипнув, тут же напоминает о существовании гравитации и моих уродливых заплаток.
— Тогда… как быть с тем, что я переспала с дюжиной парней практически на твоих глазах? — Я пытаюсь свалить Пашу самым чудовищным аргументом, и он освобождает запястье из плена, прячет руки в карманы толстовки, прищуривается и хрипло отвечает:
— Я забуду. Я хочу помнить только хорошее.
В изумлении рассматриваю его идеальное лицо. Это Паша. Мой лучший друг, мой герой, будущее… которое было возможным до шрамов. Горечь сожалений и одуряющее бессилие мгновенно прогоняют гипноз.
— Да пошел ты! — отрезаю я, чтобы окончательно привести себя в чувство. — Любви нет! Мы расстались, нам больше не по пути.
* * *
48
Паша отступает, всматривается в черноту двора, глубоко вздыхает и вновь оживает, словно персонаж компьютерной игры после перезапуска:
— Если это так, почему ты снова пошла со мной? — Он прищуривается и выдает кривую циничную ухмылку, но я-то знаю — это всего лишь защитная реакция. Ему невыносимо больно. Эта ведьма Ксю была права.
Мои внутренности горят, нервы натянуты до предела, руки дрожат. Паша специально провоцирует скандал, задевает за живое, и я взрываюсь:
— Урод, ты же сам все начал. Обнимашки на крыше, намеки… Ты развел меня! Ты опять воспользовался тем, что я не могу тебе отказать! — Я ору так, что ломит виски. Бабка с гигантской клетчатой сумкой наперевес ковыляет по тротуару и, осуждающе цыкнув, сваливает во тьму. Но соседи давно наградили нас с сестрой статусом шалав, общественным порицанием меня не остановить, и я продолжаю сыпать обвинениями:
— Ты всегда отлично подстраивался под обстоятельства — притворялся святым, прикрывался дружбой, но спал со мной. Ты бы вечно обманывал Стасю, не прекрати я все это!
Паша резко подается вперед, сверлит меня пустым взглядом, и я съеживаюсь — он реально похож на поехавшего отморозка. Но мой бывший друг, кажется, не собирается меня убивать — нервно проводит ладонью по волосам и быстро произносит:
— Самолетик все знала.
— Что??? — От внезапного головокружения я налегаю на трость и задыхаюсь, но Паша продолжает хладнокровно вонзать ножи в мою спину:
— Я рассказал ей. Сразу после того, как мы с тобой расстались. Стаська не удивилась, сказала, что давно заметила неладное, пообещала, что обязательно помирит нас. Но не успела…
Строчки, написанные сестрой золотыми буквами на крыле бумажного самолета, ее смятение, растерянность, спрятанную за улыбкой обиду, одинокую хрупкую фигуру, ждущую нас на крыльце колледжа я не сумею забыть никогда… Паша сознался первым. В отличие от меня он повел себя порядочно и попытался все исправить. Но я не могу этого признать.
— У тебя нет совести. Как ты мог? — Истерика перекрывает доступ кислорода, и я тихо пищу. — Ты представляешь, как ей было плохо? Ты хоть день переживал из-за того, что случилось?..
Промозглый ветер приводит в движение узор теней на асфальте, шумит в листьях кленов, грохает рамой на высоте, пробирается за шиворот. В подвалах вопят коты, в квартирах окружающих нас домов гремят позывные новостных передач, гудят голоса, дружно стучат по тарелкам ложки.
— Да кто ты такая, чтобы судить других? — Паша срывается, но, отдышавшись, сбавляет обороты, разжимает кулаки и переходит на дружеский будничный тон. — Она была моей подругой, а ты… моим смыслом. Врачи еще неделю после похорон готовили твою маму к худшему, твердили, что шансов у тебя нет. Переживал ли я? Я подыхал. Не знал, куда себя деть. Ходил по краю крыши, стоял на табуретке с петлей на шее, но так и не решился — кишка тонка. Ездил в больницу, сидел в справочном до тех пор, пока санитарки пинками не выгоняли меня на улицу. День и ночь просил всех богов, чтобы ты выкарабкалась, чтобы и я смог жить дальше. И чудо все же случилось — мы оба стоим сейчас здесь. Так что страдать и гнить заживо я больше не собираюсь.
У меня слабеют колени, кипяток разливается внутри, подступившие рыдания давят на переносицу — этот парень всегда был для меня лучшим человеком на земле.
Он обязательно станет чьим-то счастьем, надежной стеной, верной жилеткой и любящим сердцем, но покрытый шрамами уродливый монстр ему не пара.
И хоть мне сейчас до одури страшно и грустно, я решаюсь:
— Паша… Давай я покажу тебе кое-что. Скажешь ли ты после этого, что готов быть со мной? — Прислоняю трость к ограждению палисадника, расстегиваю пуговицу на манжете, аккуратно закатываю рукав и шагаю к свету.
Я давно должна была расставить все точки над «и», отпустить его на все четыре стороны, забыть… но Паша лишь усмехается и пожимает плечами:
— Не надо. Я видел их.
— Видел? — Я впечатываюсь в его фразу, словно в глухой забор, шатаюсь, испуганно озираюсь по сторонам, но не нахожу опоры. Паша подхватывает меня под локти, туманит мозги близостью и знакомым тонким ароматом, усаживает на скамейку и устраивается рядом.
— Как только появилась надежда, я постоянно начал тусоваться под окнами реанимации — обкуривался до блева, пил дерьмовый кофе из автомата, мерз так, что не мог разогнуть пальцы и ждал. Твоя мама спускалась и ругалась, но я не уходил, пока отец не затаскивал меня за шкирку в машину. Мне позарез нужно было к тебе попасть. Когда тебя перевели в палату, Тамара Андреевна сама подошла ко мне и сказала, что есть некоторые проблемы. Ну… что ты никогда не станешь прежней. Что мне нужно хорошо подумать над этим и отвалить, если я не готов к трудностям. Я ответил, что мне пофиг. В общем, она договорилась с персоналом, и меня провели в отделение. Подспудно я ожидал какого-то ужаса, но, блин… В момент, когда я стоял над твоей кроватью и сгорал от бессилия и ненависти к себе, ты открыла глаза.
Паша замолкает, откидывается на дощатую спинку, запрокидывает голову, долго смотрит в черные небеса над крышами домов, и я ощущаю его спокойное родное тепло.
— Ты можешь тонуть в своей боли и дальше. — Он выпрямляется и обращает ко мне безмятежное лицо. — Но с меня ее хватит. Я буду вытаскивать тебя, сколько потребуется. Потому что всегда вытаскивал. Потому что по-другому не умею. И мне не интересны другие варианты. Они не для меня.
Сумрачные глубины двора подергиваются туманом, в ушах отзывается голос Сороки: «…Я выбрал ее. А она верит мне. Я никогда больше не посмотрю на других девчонок, потому что знаю теперь, что такое любовь. Любовь — это свет. Он дает надежду».
Моя вывернутая наизнанку душа пульсирует и не вмещается в клетку ребер, я пытаюсь усмирить ее, дышу ртом, царапаю ногтем обшарпанные доски, безуспешно борюсь со слезами и вскакиваю, но Паша ловит меня за полу рубашки и возвращает на скамейку.
— Останься! — Он осторожно дотрагивается до моей руки, вкладывает в нее что-то маленькое и гладкое, пристально смотрит в глаза и тихо шепчет: — Останься со мной. Навсегда.
В ушах гудит, испуг разгоняет все мысли. Паша поднимается, быстро набрасывает капюшон и уходит в ночь, не дожидаясь ответа.
Крепко сжимаю пальцы, но уже мучительно ясно осознаю, что Паша только что сделал.
Он предложил жить дальше. Вытаскивать друг друга из бед и депрессий, любить и беречь, помогать и защищать, вместе идти по миллионам дорог — в горе и в радости, пока смерть не разлучит нас… Потому что вдвоем легче. Потому что так проще хранить воспоминания, которые нельзя забывать.
Кусаю губы, давлюсь слезами, стираю их рукавом, и черная тень с готовностью повторяет за мной резкие дерганые движения. Пульс заходится и замирает, сотни иголочек покалывают тело. Под электронные сигналы сверчка, отдаленные звуки сирен и лай собак в ужасе раскрываю ладонь.