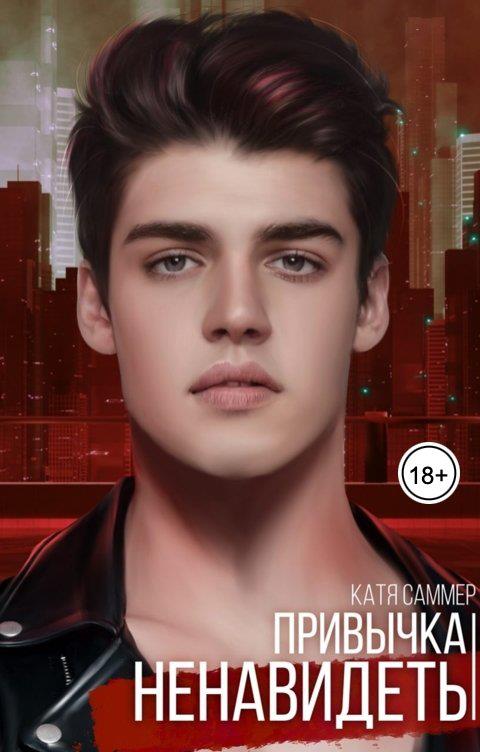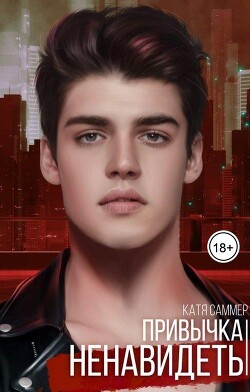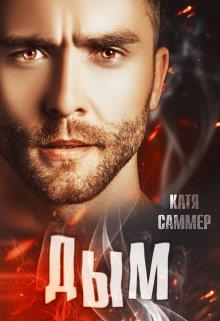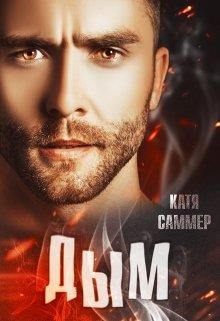но оно, блин, сворачивается в желудке, как забродивший кефир. После всех событий я перестал думать дальше, чем на день вперед. Сейчас меня мало интересует спортивная карьера или будущее дипломата. Лишь бы мама очнулась — другого ничего не нужно.
— Ладно, отдыхай. Толку от тебя все равно никакого сегодня.
— Я могу вернуться на тренировку? — злюсь непонятно за что на самого себя.
— Нет. Русским языком говорю — домой езжай и выспись, как следует. На зомби похож, народ мне пугаешь. Еще капитан, называется.
Спорить с тренером бесполезно, но я все же спорю. Довожу его до белого каления, особенно и не стараясь, но и у самого пригорает, потому что тот правду рубит жестко. В раздевалку я влетаю, как гребаный торнадо: сношу скамейку и с психом отыгрываюсь на дверце личного шкафчика. И холодный душ мне не помогает. Лишь по дороге в больницу я выдыхаю — вынужденно. Просто не хочу, чтобы мама видела меня таким. Даже если она ни хрена не видит.
Я прошу сиделку оставить нас и осматриваюсь в палате. За те сорок восемь часов, что я не был здесь, ничего, конечно же, не изменилось. Мама по-прежнему не открыла глаза, не улыбается, не треплет за волосы, будто мне снова шесть. Не шелохнется. Трубок, торчащих из ее тела, меньше не стало. А мониторы все так же издают монотонный писк, который и без черепно-мозговых травм вводит в коматозный ступор. И я бы даже лег рядом. Забил на всех большой и толстый и остался здесь, с ней, если бы не слышал в голове ее голос.
«Сынок, ты у меня самый сильный»
«Ты справишься, малыш»
«Подумай, что еще ты можешь сделать, если тебе кажется, что уже сделал все, что мог»
Мой взгляд скользит по ее безмятежному лицу, по тонким рукам, лежащим поверх больничного одеяла, и потускневшим волосам, за которыми она так трепетно следила. Сильно в глубине души я радуюсь, что Краснов все же выгнал меня с тренировки, и я приехал сюда. Потому что я все чаще стал избегать этих поездок. Потому что я заблудился в своих мыслях и в собственном доме. Потому что эти три месяца оказались похожи на бесконечный бег в темном туннеле, в конце которого вот-вот погаснет свет.
Как рассказал мне интернет, принято считать, что люди выбираются из коматоза до пяти недель. Все остальное — сценарии для фантастических фильмов. Мама без сознания уже тринадцать. Кома четвертой степени, три остановки сердца и реанимация. Самый вероятный прогноз — смерть, если по-человечески и без заумных терминов.
Сейчас ее жизнь, если это можно так назвать, напрямую зависит от машин. Ее пичкают препаратами, чтобы поддерживать работу организма. С ней делают упражнения, над ней проводят тесты, как над лабораторной крысой.
И все из-за одного ублюдка.
Ланского.
Который не ответил за дерьмо, что сотворил. И не ответит, судя по тому, что всем насрать.
Со злости мну стебли ее любимых роз, царапая руки шипами. И зачем я вообще таскаю в больницу цветы? Кстати о них. Скосив взгляд к окну, за которым сгущаются тучи, я замечаю очередной букет цветущей травы, которая даже не пахнет — я уже проверял. В прошлый раз ни сиделка, ни медсестра так и не признались, кто передал веник, а я им откровенно и безрассудно угрожал. Их толстокорую совесть оказалось не пронять, хотя вообще-то я имею право знать, так ведь? Не папашка же заказывает из Израиля?
Сжав кулаки, чтобы снова не начать с ходу на всех орать, я как раз направляюсь в сестринскую, когда в конце коридора замечаю знакомого лечащего врача и…
Ланска́я? Какого?
Наши взгляды скрещиваются, как рапиры. Секунда-две на понимание, и сучка пугается — издалека замечаю, как округляются у той глаза, как она пятится-пятится назад.
Струсила?
Я будто в замедленной съемке вижу, что она разворачивается, прячется в худи и топит в сторону лестницы, а меня резко бросает вперед. Я не обращаю внимания на слова медсестер, не здороваюсь с врачом. Бегу, мчу за ней. Через дверь. Вниз два пролета. Ловлю тень. Силуэт. Торможу за руку, сдергиваю капюшон и смотрю в бесстыжие глаза. Серые, как грязный асфальт.
— Отпусти, иначе буду кричать, — тихо, сквозь зубы выдает с рычанием.
— Кричи, сколько влезет.
И желательно изо всех сил.
Ян
БЛАЖИН — Не перебивай
— Отпусти, — повторяет, дерзко вскинув подбородок. Скалится, рычит, как дикий зверек, которого поймали в капкан, и выдыхает отчаяние.
И вот это девчонка? Раньше хотя бы в платьях бегала, можно было отличить от пацана, а сейчас… На голове мочалка, брови неровные — одна шире другой. Она не накрашена, и я отчетливо вижу дурацкие веснушки, рассыпанные по ее лицу. Еще и губы покусанные сухие.
Она ловит мой взгляд, когда я как раз смотрю на них. Что-то бормочет, двигая ими, а я злюсь и сильнее стискиваю ладонь на ее запястье. Желание сломать Ланскую, оставить на ней отметины до одурения растет — я это не контролирую. Кожа под моими пальцами желтеет, чтобы потом покраснеть.
— Больно, — бормочет так тихо, что я почти читаю это по ее губам, которые она снова кусает.
— Да ладно? — закипаю я.
Она дергается, пытается вырваться на свободу и со свирепым взглядом, который блестит в полутьме, замахивается мне по лицу другой ладонью.
— Совсем страх потеряла? — Я заламываю обе ее руки за спиной, и Ланская врезается в меня грудью, которую, судя по ощущениям, она все же где-то потеряла.
Девчонка оказывается слишком близко, в каких-то сантиметрах, и я с удивлением отмечаю, что от нее не пахнет. Совсем ничем. Ни модными вонючими духами с феромонами, ни всякой косметикой с отдушкой, ни пóтом, ни едой, ни фруктовой жвачкой. Разве что чистой одеждой и свежестью, и это кажется странным. Я пальцами ощущаю, как под тонкой кожей бешено бьется пульс, хоть Ланская и старается изображать вселенское спокойствие. Я, черт возьми, с наслаждением наблюдаю, как у нее от боли дергаются уголки рта, как она пытается сдержать шипение и раздувает ноздри, а на лбу выступает вена. Но молчит. Почему она, сука, молчит? Обещала кричать ведь!
— МНЕ. БОЛЬНО. ТУПОЙ ТЫ, ПРИДУРОК! — это слетает с ее губ негромко, но каждый слог лупит меня пощечинами.
— Врешь, — ухмыляюсь я в ответ легко, будто мы здесь шутим, а сам лишь крепче сдавливаю