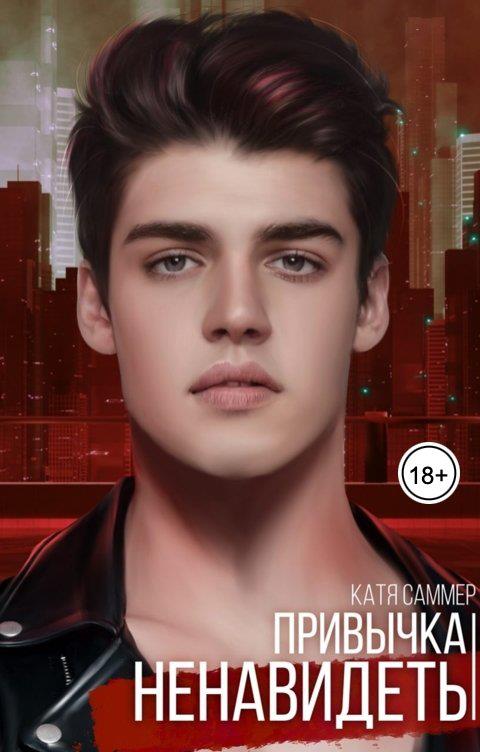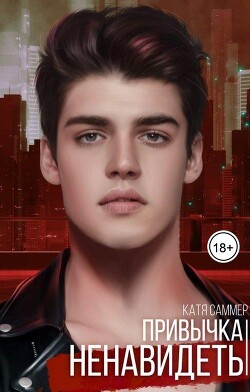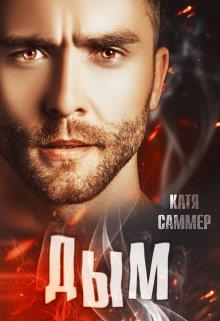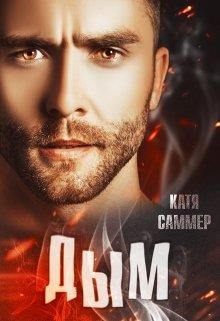пальцы. Я ненавижу ее всей душой, особенно сейчас, когда она не сдается, хоть и проигрывает. — Но ты в этом профи, да?
Вспышка в колючем взгляде и вмиг расширившиеся зрачки говорят о том, что все она понимает, пусть и продолжает делать вид, нахмурившись, что нет.
— Если у тебя есть какие-то претензии, то можешь изложить их официально в заявлении в полицию. — Она трепыхается, словно беспомощный плюшевый кролик в предсмертной агонии, вокруг которого один за другим смыкаются кольца удава, ломая ему кости, чтобы легче было глотать.
— Смотрю, язык у тебя на месте, — сощурившись и склонив голову набок, произношу я. — В универе не совала бы его в задницу, может, и не казалась бы такой жалкой.
И это контрольный, после которого срабатывает детонатор, и ее рвет на части. Ланская краснеет, дует щеки, рычит не своим голосом, а я, ведомый какой-то черной магией, отвлекаюсь на это и пропускаю запрещенный лоу-кик.
Адская боль в один миг сводит все ниже пояса. До скрипа стиснув зубы, я с рваным выдохом складываюсь пополам и упираюсь ладонями в колени, чтобы тупо не сдохнуть. Челюсть сводит — так сжимаю зубы, сердце бьется навылет, будто ставил рекорды на стометровке, а это всего-навсего красный «конверс», зарядивший мне по яйцам. Быть слабым я, правда, позволяю себе не дольше пары секунд. И стерву, что пытается проскользнуть мимо, не упускаю — перехватываю под локоть на две ступени ниже меня.
— Не смей больше появляться здесь. Увижу — убью.
Уверен, мой взгляд напрямую транслирует кипящую ненависть, которая распирает грудь. И Ланская вроде бы даже пугается, но это не мешает ей плюнуть в меня — в прямом, мать ее, смысле — и пуститься наутек. Чтобы потом, на безопасном, по ее мнению, расстоянии длиною в лестничный пролет, задрать вверх нечесаную голову и крикнуть мне:
— Я Наташу тоже люблю! Она, в отличие от тебя, потрясающий человек, — и затем добавляет тише, будто бы для себя: — Она готовила мне черничные пироги, когда мама ушла.
И сбегает трусливо, пока я, корчась, стою, точно оглушенный. И не потому, что знаю теперь, куда кочевала мамина кондитерка, которую она готовила вроде бы для коллег из детского сада, а потому что Ланская, наверное, единственная из всех, кто в последнее время говорил о маме в настоящем времени.
Тетя Наташа была клевой. Жаль, что с ней такое дерьмо произошло, — сказал недавно Дэн.
Печально, что я не успела ближе познакомиться с твоей мамой, — несколько недель подряд болтала Софа без остановки.
И че, дом-то теперь весь тебе достанется? Или папаша объявится? — перед тем как отхватить по морде, спросил Остроумов.
Меня от их слов выворачивает наизнанку. Все ее будто заживо похоронили, хотя ее сердце по-прежнему стучит!
И все из-за этого жалкого урода, великого писаки Ланского, который после случившегося едва ли не рыдал у скорой с криками, как ему жаль. Зато, когда примчал его адвокатишка, тот сразу заткнулся и по итогу не подписал ни одно признание. Он заявил, что, выпив коньяка, крепко спал дома, пока его тачка, которую он забыл поставить на ручной тормоз, медленно скатилась к склону и сотворила весь этот ад. И не нашлось ни одной годной записи с камер, чтобы опровергнуть его слова!
Черт бы его… И без ста граммов понятно, что тема с машиной-убийцей — это хрень на постном масле, но я ничего не сумел доказать. Пробовал. Не раз. Ни денег, ни сил жалко не было. Не вышло.
Как итог: мать в коме, урод на свободе. И он, и его дочурка, которая каждый день лет с тринадцати моталась вечером по району на роликах — знаю, потому что часто в это время возвращался домой после тренировок, а конкретно в момент икс, блин, охраняла папочкин сон.
Ложь. Ложь. И еще раз ложь.
С размаху вписав кулак в бетонную стену, я матерюсь под нос и слышу, как звонит телефон в заднем кармане. Отец. Что ему надо? Приходится выдохнуть несколько раз, чтобы с ходу не послать его на хрен.
— Чем ты занят таким, что ответить не можешь? — вместо того, чтобы спросить, как дела, он нападает на меня. По-другому не бывает.
Разговор выходит коротким, впрочем, как и всегда. Я уже даже не огрызаюсь — просто не трачу силы на это. Деньги, выплаченные Ланским по постановлению суда, закончились слишком быстро. Хорошую палату для мамы, сменных сиделок и круглосуточный уход я не потянул, поэтому пришлось просить о помощи отца, который перевел ее в другую больницу к какому-то знакомому именитому врачу.
И я ненавижу это.
Я уже очень давно не притрагивался к его подачкам, перебиваясь разными шабашками. На машину, пусть и не новую, сам накопил, хотя все вокруг считают, что с таким отцом, как у меня, не нужно напрягаться. Я ни с кем не спорю. Они могут думать, что хотят, но изменять принципам я не буду. Отец ушел от нас десять лет назад, и с тех пор я его не видел. Мама в коме — все еще недостаточный повод, чтобы приехать.
Когда я ловлю в коридоре врача и слышу очередной набор сухих терминов, желание убиться в хлам множится под кожей. Спустившись на парковку, я несколько минут смотрю на счесанный бампер с вмятиной, которую придется выдувать и полировать. Звоню Вéталю, двоюродному брату Саввы, в детейлинг, где частенько пропадаю в последнее время — за пару ночных выходов в неделю с заказов можно поиметь тысяч двадцать-тридцать. Беру заказ на сегодня и прошу помочь со своей тачкой, а то негоже светить таким видом. Лишь после сажусь за руль, правда, все еще выпадаю из реальности — подвисаю и не завожу мотор. Адски хочется курить, но я обещал матери, что брошу. Открываю окно, терплю, дышу. И лишь тянусь к ключам, как слышу знакомый писк.
— Да отвали ты!
Дьявол! Ланская! Опять она!
Меня едва ли не выворачивает от одной ее тени, и все же я не могу развидеть то, что уже маячит перед глазами. Из ушей вот-вот повалит пар, но я поджимаю губы, глядя, как ту задирает какой-то левый тип. Как он толкает ее, бодается с ней, а Ланская верещит, будто ее горячо хранимой девственности прямо сейчас и лишат. Уверен, там цветы никто еще не рвал, да кто на нее позарится?
Я моргаю, но Ланская никуда не исчезает, как бы