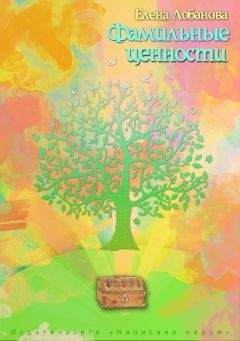…И вот эти его слова про спаниеля и пианино, говорила себе Зоя, сорокатрёхлетняя Зоя Никитична, очнувшись и бредя к маминому – нет, СВОЕМУ! – подъезду… слова, которые, может, и вообще-то не были сказаны, а только почудились… послышались… в этом ещё надо было разбираться, осторожно обживая воспоминания о странной встрече… эти слова были оттуда же, из детства, из края чудесных преданий, из жизни спящих красавиц, снежных королев, принцев и золушек…
Могло ли такое быть, чтобы кто-то ЛЮБИЛ её, когда она, с растрёпанными белёсыми косичками, обречённо брела в музыкалку, сжимая в своей и без того «зажатой» руке скользкие чёрные тесёмки папки с нотами?
Когда за забором ДОСААФа мяукал котёнок, и она полезла кормить его и пропорола гвоздём ногу?
И когда в приморском посёлке Архипо-Осиповка грустила на краю взрослой танцплощадки?
Могло ли быть, чтобы всё это время кто-то ДУМАЛ о ней? Чтобы видел в ней что-то особенное, и тайная упрямая мечта вела его следом?
Она попыталась представить себе того мальчика: каким он был когда-то – длинным? угловатым? Или, наоборот, маленьким и коренастым? Носил ли он в шестнадцать лет, как тогда было модно, вязаную безрукавку «из остатков пряжи» на голое тело и брюки клёш?
Она не могла бы толком описать даже нынешний его облик. Запомнились только глаза – тёмные, какие-то мягкие… А рост? Фигура? Нет, она была чересчур поглощена разговором…
«Но когда же ты… вы могли слышать, как я играю?» – всё-таки спросила она его напоследок.
«Я иногда проходил под твоим балконом. Летом было всё слышно!» – ответил он.
Зоя миновала подъезд и вышла на улицу. Подняла голову, посмотрела на свой балкон. Вернее, на свой бывший балкон. Снизу по углам от него отваливалась штукатурка. Последний ремонт делали года два назад, но до балконов не добрались – ограничились подновлением цоколя. Теперь свежепокрашенный красно-коричневый цоколь радостно сиял на фоне обветшалого колорита остальной части дома.
В Зоином детстве как-то не принято было стеклить балконы, и иноземное слово «лоджия» ещё не вторгалось в квартиры как непременная часть интерьера. Тогда на балконах пили чай, растили фикусы, а дети пускали вниз блестящие радужные пузыри из самодельного мыльного раствора. На их балконе стоял здоровенный сундук со всяким хламом – или это тогда всё старое казалось ей хламом? – сидя на котором было как раз очень удобно пускать пузыри, а в углу приютились папины удочки в чехле.
А сейчас все балконы были застеклены, все форточки закрыты…
Что же она тогда играла? Что он мог слышать? Гаммы? Этюды Черни? Или хотя бы начало Пятой сонаты? А может, даже Седьмой вальс Шопена?
«А я что тебе говорила? – сварливо вмешалась неизвестно откуда взявшаяся Марина. – Каждый пианист должен заботиться о своём репертуаре!»
«Марина Львовна! Ну не сыпьте же соль!» – взмолилась Зоя и направилась обратно во двор.
Настала пора войти в подъезд и вернуться в неумолимое настоящее.
Но если сейчас ещё дядя Гриша заведёт про ресторан и разврат… А мама скажет своим специальным тоном, что поздно менять жизнь на пятом десятке…
Пожалуй, неумолимое настоящее было ей сегодня не по силам. Шаги сами собой замедлились. А потом остановились совсем.
В конце концов, у неё были и другие дела!
Да и время репетиции приближалось…
Дверь в репетиционную комнату оказалась заперта.
В растерянности Зоя побродила по балкону, стараясь потише скрипеть половицами. Заглянула в оба окна. Музыкальные отходы, не оживлённые присутствием человека, выглядели беспомощно. Лишь синтезатор, словно узнав её, приветливо блеснул открытой клавиатурой.
Зоя присела на ступеньки, вдруг обессилев.
Внезапно открылась дверь внизу, и из неё выглянула блондинка, похожая на куклу Барби в домашнем халате леопардовой расцветки. Зою всегда удивляло: как это людям не холодно зимой в халатах с такими вырезами?
– Зося? – спросила Барби хриплым прокуренным голосом. – А я слышу, кто-то ходит… Спускайся! Счас Гарьку разбужу.
– А вы, наверно, его жена? – догадалась Зоя.
– Не помнишь меня? – удивилась блондинка. – Я ведь тоже у Громовой училась, только курсом младше. Женя Полякова!
Зоя не помнила никаких Барби курсом младше. И если в училище принимали не моложе пятнадцати, то Жене Поляковой должно быть лет примерно… ну да, за сорок. А этой красотке – примерно двадцать… ну, пускай восемь.
– «Что такое виртуозность? Всего лишь приспособление руки к возможностям инструмента!» – вдруг проговорила Женя своим низким голосом, но при этом совершенно громовским тоном.
Зоя расхохоталась и тут же узнала её. Значит, та самая тощая, бледненькая девочка, которую вечно принимали за «педпрактику»!
– Вспомнила? Ну, заходи! Кофейку выпьешь? Давай сюда пальто… Гарик! Зося пришла!
А вот по голосу ей можно было, пожалуй, дать и все шестьдесят…
Крошечная прихожая переходила в малюсенькую кухню. Здесь было тесно, почти не повернуться. Зато всё блестело и весело переливалось: маленький холодильник с дверцей, увешанной разноцветными магнитами, серебристая мойка, зелёный электрочайник с прозрачным боком и победно сияющая мясорубка, тоже электрическая. Пахло здесь кофе и почему-то – лимоном.
О, как страстно захотелось Зое иметь точь-в-точь такую же тесную и весёлую кухоньку!
– Они вчера день рождения Фёдора отмечали, – сообщила Барби-Женя, водружая на стол ярко-красную кружку «Нескафе». – Я звоню, а Гарька уже хорош – «Празднуем, говорит, именины этого… как его? Ну, этого… забыл… контрабаса, в общем!» А они с Федькой когда-то в цирке работали, в оркестре…
На этом месте в кухню втиснулся заспанный Флух и приветственно воздел руку.
– Монинг! Ябедничаешь? – беззлобно укорил он жену и обратился к Зое. – А ты чего так рано? Я ж сказал – часов в двенадцать!
– Так уже без пятнадцати! – Зоя сунула ему под нос часы.
– Да? Ну, пацаны вообще редко когда вовремя приходят. Бывает, и с трёх репетируем… Витёк ещё ничего, а Борюня когда и до вечера может проспать. Творческие («творфефкие») натуры!..
Зоя слушала с затаённой тоской. Как он легко сказал – «репетируем»! И на сколько километров впереди неё были эти «творфефкие» натуры!
А ей только предстоял вступительный экзамен. Ей, на пятом десятке – начинать с того места, на котором остановилась когда-то в училище!
Пожалте теперь и вы, Зоя Никитична, провериться на фальшь.
Не разучились ли слышать чистые ноты? А кстати, и попадать в них? А как насчёт держать ритм? Или, как это у них называется, – квадрат?
– Слушай, ты вот говорил, что свинг… – она порылась в сумке, вынула блокнот. – Вот… основной рисунок свинга – триоль, да? Четвертная – восьмая?
Флух плюхнулся на стул и закатил глаза.
– Жека, ты такое видела? Зофька, я с тебя валяюсь… Отличница, блин! Заочница! Алгебра с гармонией! Да свинг – это вообще не ритм. Солнце моё! Свинг – это… кайф! Запиши, запиши… Это как плывёшь, так с оттяжкой: па-а-ам-па-па-а-па-па-а-па… Сочетание личной свободы – и общего пульса. Поймала один раз – и держи!
– Квадрат? – догадалась Зоя.
– А что ж ещё? Ни за кем не иди, никому не поддавайся. Держи квадрат – и всё!
– А вот такое у вас было… Ритмичное… Тум-тум, ту-ту-тум… типа народное… это что, тоже джаз?
– Родная моя! А ты что ж думала: джаз – это свинг и диксиленд, как в золотых пятидесятых? Училка ты наша!
– Хорош пудрить человеку мозги! Толком говори, – неожиданно прикрикнула на мужа Жека, и тот так же неожиданно сменил тон на примирительный:
– Понимаешь, Зофь, сейчас нам можно практически всё! Хочешь – вводи любые элементы. Мелодии, там, ритмы – чего душа желает! Самба, румба, русские частушки, да хоть какая-нибудь македонская полиритмия… От нас требуется одно – джазовая аранжировка. Квадрат, соло, импровиз – это обязательно. Чувствовать ансамбль… Ну, это ты и так умеешь.
– Может, когда-то умела… Подожди, а вот ещё… В конце обычно замедление и тремоло, так? Слушай, а ещё какая-то такая фразочка, вы её между делом наигрываете: вверху триоли, а в басу как бы шаги: до, ми, соль, ля, си, ля, соль, ми… В смысле не си, а си бемоль.
– Фа, ля, до, ре, ми, ре, до, ля… В смысле ми бемоль! – поддержала Жека. – Это ж буги-вуги, Зось!
– Ой, точно! А я думаю: ну, знакомое же что-то, – Зоя постучала себя по лбу. И поинтересовалась: – А ты, Жень, почему сама с Гариком не играешь?
– Я играла. Лет примерно пятнадцать… – она переглянулась с мужем и как-то вдруг утратила сходство с Барби. – А потом – тендовагинит, воспаление мышечных волоконцев. Переиграла, короче!
Она подняла руки, и широкие рукава упали к локтям. Руки были тонкие, смуглые, без всяких признаков болезни. Флух взял левую и спрятал в своих.
– Жека на шопеновском концерте играла седьмой вальс, – сообщил он. – Через год после тебя. Громова его не всем давала!
Зоя отлично знала, что не всем… Теперь они перенеслись в прошлое втроём и видели как бы одно и то же, но по-разному. Каждый со своего собственного ракурса.