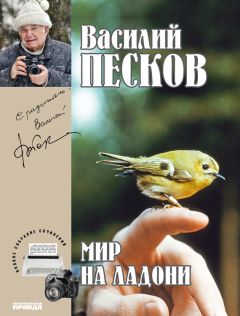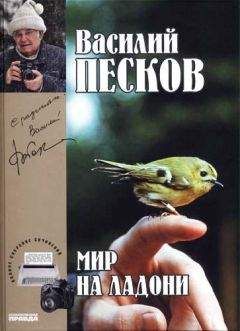Слышу шевеление в папиной комнате — и замираю. Я люблю его — только сейчас одиночество я люблю больше.
Но где уж там. Вижу, как его тень в спальне двигается по стене по направлению ко мне. А потом возникает и он сам. Останавливается у двери. Упирается ладонью о косяк, словно раздумывает, идти ко мне или нет.
— Привет, — говорю. — Подушка с собой?
Я не вижу его лица, но, уверена, он улыбается — чуть-чуть, уголком губ — когда вытаскивает из-за спины подушку.
— Пароль введен правильный, доступ к подоконнику открыт, — проговариваю я металлическим голосом.
Папа отталкивается от дверного косяка и идет ко мне — и на доли секунды мне кажется — так явно, что дыхание перехватывает — что в темноте ко мне приближается Глеб из моей истории. Сейчас моему папе сорок восемь, но он по-прежнему замечательно выглядит. Ему и от природы повезло, и следит за собой. Занимается плаванием. Много гуляет. Пьет зеленый чай. Ни алкоголя, ни сигарет. И так уже почти тридцать лет. Мне кажется, даже роботы не способны к такой самодисциплине. В этом я точно не в отца.
Он подходит ближе — и на его лицо падает свет фонаря. Сколько его знаю, все удивляюсь — как может лицо с такими мягкими чертами выражать такую непреклонность. Иногда мне кажется, оно высечено из камня. Но не сейчас. В его глазах беспокойство, а не твердость.
Папа располагает подушку между нашими спинами. Я чувствую, как между нами снова начинают бегать целебные токи. Молча передаю ему свою чашку чая. Он делает глоток и также молча ее возвращает.
Вот теперь точно воет наша собака. Ветки тихонько скребут по стеклу.
— Любишь? — спрашивает он — и по тону его голоса я угадываю, о ком идет речь.
Пожимаю плечами.
Никогда не любила мужчину — мне не с чем сравнивать. Так что, да — не знаю. Не уверена, можно ли назвать мое чувство — когда воедино сплавлены смятение, боль, тревога, притяжение, физическое влечение, зацикленность мыслей на единственном человеке — любовью. Мне кажется, этого мало. Должно быть что-то еще.
— Проверь, — вдруг произносит отец.
Я резко поворачиваю голову в сторону — хотя не могу увидеть его лицо.
— Ты же сказал…
— Теперь это неважно, — перебивает он меня.
— Почему? Что случилось?!
— Случилась ты, Крис.
— Ну, я случилась уже давно, — улыбаюсь.
— Одиннадцать лет, один месяц и четыре дня тому назад.
— Пап…
— Помнишь, каким я был, когда мы встретились?
Задумчиво провожу пальцем по ободу кружки. Чай уже остыл.
Конечно, помню.
— Добрым. И печальным.
— Точнее — одиноким, нищим, вечно страдающим неудачником.
— Неправда, — я хмурюсь.
— Не перечь отцу! — с напускной строгостью отчитывает он меня. — Все, что у меня было, — это связи — кому я только машины не чинил. Но я не видел смысла этими связями пользоваться. До встречи с тобой я вообще ни в чем не видел смысла. А потом все изменилось. Я этот дом купил на следующий день после нашего с тобой первого разговора. Даже не знал, придешь ли ты в то кафе, — но влез в долги — и купил. Так что этот дом у меня — благодаря тебе. И первую свою мастерскую открыл благодаря тебе — чтобы ты ни в чем не нуждалась. А теперь у меня их — целая сеть. Я на все, что угодно, готов, — лишь бы ты не сидела вот так по ночам, на подоконнике, изнывая от тоски по человеку, с которым не можешь встречаться из-за меня. Запрет имел смысл, пока ты ничего не чувствовала к Графу. Поэтому и говорю — проверь. Чего только в жизни не случается — мне ли не знать. Вдруг он и в самом деле — твой. У меня только одна просьба — не говори ему, кто я.
Сбрасываю плед и слезаю с подоконника — подушка соскальзывает на пол, мягко, словно кот. Отец поворачивается ко мне — и обнимает меня. Долгое время мы так и стоим, обнявшись. Я слышу, как ветер гудит за окном, ветки царапают стекло — и как громко и часто бьется сердце папы. Только этот звук и говорит мне, как сильно переживает отец на самом деле.
Папа приподнимает мой подбородок, чтобы заглянуть в глаза, — хотя, что он может рассмотреть в такой темноте? Но, видимо, для этого свет ему не нужен свет. Смотрит внимательно, чуть склонив голову на бок. И выносит вердикт:
— А давай еще по кружке чая перед сном? С медом и корицей.
Люблю своего отца — больше жизни.
— Я заварю!
— Нет — я, — настаивает папа.
Он закутывает меня в плед, а сам идет к плите. Смотрю на него, любуюсь. Вот он включает свет нал столом. Набирает воду в зеркальный чайник со свистком. Зажигает спичкой огонь в конфорке, ставит чайник. Берет с сушилки две кружки — свою — черную, и мою — белую, с коровой и цветочками. Открывает шкафчик, где стоят баночки с травами — и вдруг начинает вертеть головой так, словно не находит нужную, — хотя все они на виду.
Мое сердце резко и больно сжимается.
— Пап?.. — зову я, пытаясь не впустить в голос горечь.
Но он уже не слышит меня.
— Где мое кольцо, Ксения?!
Он поворачивается ко мне, смотрит невидящими глазами, словно я призрак.
— Ты обещала мне кольцо, Ксения! Кольцо, которое я передам нашему ребенку!..
Глеб забежал в общежитие ближе к одиннадцати дня, после лекций в аспирантуре. Мог бы и не возвращаться перед занятиями в школе — времени до урока оставалось в обрез, опять ребята будут под дверью толкаться. Но дождь на улице лил, как из ведра. Вода затекала даже в карманы куртки. Ботинки, заношенные и худые, промокли насквозь.
Мрак, холод, ветер, ливень. Глеб любил такую погоду: когда внутри и снаружи одинаково — наступает равновесие. А еще в такие дни он очень любил преподавать.
В конце урока обязательно задавал пятиминутную проверочную работу. Десятиклассники строчили на листках, и, кроме шелеста бумаги и жужжания электрических лампочек, в классе не было слышно ни звука.
Тогда он подходил к окну. Стекло отражало головы учеников, склоненных над партами, доску с формулами по физике, плакаты на стене — и его самого: высокого, худого, крепкого мужчину, сложившего руки за спиной. Отражение врало: не показывало ни бледности лица, ни теней под глазами от бессонницы, ни ранней седины — наследство по мужской линии. Но было в той иллюзорности, прозрачности, невесомости что-то правильное, настоящее.
Только в тот дождливый день на урок он так и не попал. Подходил к школе — спешил, обходя лужи, придерживая капюшон — и не сразу услышал, как у ворот его кто-то окликнул. Остановился через пару шагов — сработала глубинная память на этот голос.
Оглянулся.
У обочины стоял мотоцикл. На нем в шлеме сидел парень — тот самый, что предлагал Глебу деньги пять лет назад.
Мотоциклист кивнул на сидение позади себя.
Глеб покачал головой.
— Я спешу.
— Нельзя. Садись.
Этот бесстрастный голос так зацепил какой-то особо чувствительный душевный нерв, что Глеб поморщился от боли. Словно он уже долгое время стоял на крыше высотки — на самом краю, без ограждения — и только силой воли заставлял себя не смотреть вниз. А теперь — посмотрел.
Бросив прощальный взгляд на школу, Глеб сел позади мотоциклиста.
Это был последний фрагмент из письма, адресованного Графу, — и один в один тот сон, который приснился мне в ночь после разговора с отцом на подоконнике.
Приступы у папы, хоть и случались все чаше, но проходили бесследно, отец о них не помнил. Только каждый раз мне становилось не по себе. Ощущение было такое, словно я его теряю — он уходит, а я не успеваю за ним. Кошмар наяву.
К чему такие приступы могли привести? Где передышка? Где остановка? А если за этими воспоминаниями потянутся другие? А если папа, постепенно погружаясь в прошлое, уже не выплывет, захлебнется? Если однажды я его потеряю?.. Поэтому мне так нужно это кольцо… Оно важнее моих отношений с Графом. Но что, если выбирать не придется?..
Сажусь в мою машину — любимое «Поло» лазурного цвета. Его я могу разобрать и собрать с закрытыми глазами — папа обучал меня не только вступительным предметам.
Мчусь к Графу. Впервые с начала истории я приезжаю к нему утром. Резко, с визгом тормозов, паркуюсь под его окнами — и взбегаю на крыльцо. Понятия не имею, что скажу Графу. Может, ничего не скажу, — молча, брошусь стягивать с него одежду. Вот такой у меня настрой.