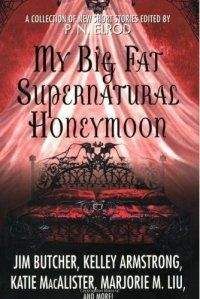- Думаю, я всегда столько времени работала сверхурочно, что мне было не до отдыха и плотного ужина, - как-то небрежно заметила Эшли у своего доктора, отчего Виктор побледнел от гнева и в тот вечер заставил ее съесть невероятно огромный стейк на ужин. Она научилась не говорить о своем прошлом при нем, потому что он слишком злился. Это было приятно, но, в некотором роде, глупо. Разве он не понимал, что все это быльем поросло?
Странно, что она смогла так легко забыть о трудном детстве, но с такой неустанной яростью винила Виктора за те ошибки, что он допустил. Возможно, дело было в том, что она никогда не ожидала от детства чудес и потому не была разочарована. Возможно, потому что я стала мстительной дрянью, угрюмо думала она. Но она влюбилась в Виктора и ожидала от него, что все будет волшебно и восхитительно, но лишь была жестоко обманута в своих надеждах.
Несмотря на эти проблемы, их сексуальная жизнь была изумительна, лучше, чем когда-либо у нее было. Даже лучше, чем та ночь, когда он вернулся из Афин. Она все еще не решалась брать на себя инициативу в сексе, но ей никогда и не приходилось – Виктор всегда желал ее, а вообще, у нее складывалось впечатление, что иной раз он хотел ее, но сдерживался, либо потому что думал, что она его не хочет, либо потому что считал, что она слишком устала.
Она решила, даже заволновалась по этому поводу, что все может измениться, как только начала толстеть, но этого не случилось. Виктор был страстен и несдержан как никогда, и он обожал ее тело – ее живот, увеличившуюся грудь и все остальное. Он был настолько заворожен анатомическими изменениями в ней, что она без всяких колебаний разбудила его в два часа ночи, когда ощутила, как задвигался малыш. Они не спали и лежали вдвоем еще час, надеясь, но ребенок решил их больше не радовать.
С тех пор, конечно, она часто чувствовала движение. Она была уже на пятом месяце, в конце концов, на втором триместре – почти полпути пройдено. Она обожала ребенка даже до того, как ощутила первые робкие толчки, но сейчас то сильное чувство, что было в ней по отношению к этому ребенку почти пугало. В отличие от того, что она чувствовала к Виктору, в отношении ребенка она не испытывала никаких колебаний. И временами она думала, что должна любить Виктора просто за то, что он подарил ей это невероятное существо... и так ли важно, в точности, как именно она забеременела?
А иногда она вспоминала те ужасные слова, что он сказал ей в додзе Дерика: о том, что сообщница убийства не может быть достойной матерью для его ребенка. Как он стал бы судиться с ней за опеку, и тогда она думала, что не сможет ни на один день остаться в его доме.
Джинни выехала, чувствуя, как несчастна Эшли.
- Тебе нужно разобраться с проблемами своего брака, - наставляла она ее, игнорируя просьбы Эшли остаться. – И будет слишком легко не принимать их во внимание или откладывать их решение, пока я здесь... как приятная и удобная помеха. Кроме того, я немного скучаю по банде из Карлсона-Муша, а кому-то ведь нужно мучать доброго доктора Лангенфельда. К тому же, Эш, ты не понимаешь? В этом случае и правда третий – лишний.
Так что Джин съехала. На удивление, после этого все стало немного легче. А Виктор точно стал расслабленнее. Она решила, что цена уступки в виде переезда Джин в дом была для него высокой, но он никогда ни словом, ни жестом не указал, что не был счастлив, что она жила здесь.
Виктор признавался в любви к ней очень часто и, казалось, никогда не ожидал ответа. Но каждый раз, как она слышала эти слова, ее едва не передергивало. Они напоминали ей, что она не любила, не могла любить, или что любила, но была слишком труслива, чтобы признать это. В любом случае, каждый раз услышав ненавистные три слова, она лишь чувствовала себя хуже.
Она начала вести дневник, и то, что она видела свои мысли на экране перед собой, помогало, хотя когда она попыталась описать насилие, пальцы так дрожали, что она не смогла печатать. Но как только все было написано, при прочтении оно уже не казалось настолько ужасным. Черт, подумала она с тенью улыбки, она бывала на мероприятиях, которые были также отвратительны. И она смогла взглянуть на Виктора с новой стороны, потому что ей пришлось осознать, что никогда до или после этого он не пытался взять ее силой. Ни разу он не сделал ей больно, проникнув, прежде чем она была готова... даже более того, ее удовольствие было ему важнее, чем свое.
Двадцать седьмое марта.
Виктор удивил меня за ужином: на десерт был флан[28]... Я как-то упоминала несколько недель назад, что это мой любимый десерт, и они с Марни, нашей кухаркой, тренировались, чтобы приготовить его правильно. Подозреваю, что в основном все делала Марни, хотя она клялась всеми святыми, что без него бы ничего не смогла. Ха! Без его денег на покупку ингредиентов, возможно... в любом случае, флан был просто объедение, и я съела два куска. Боже, как же я растолстела. Шарон Оупиц в восторге, конечно же, она вечно надоедает мне своими наставлениями побольше есть. И Вик тоже, по такому случаю. Думаю, я понимаю, что такое иметь мать, потому что он вечно преследует меня: «Ешь, ешь, ешь».
За завтраком он сказал, что я самая красивая беременная женщина, которую он когда-либо видел, а я ответила, что он слегка небеспристрастен. Он захотел узнать, при чем тут это, и так серьезно, что я не выдержала и засмеялась. Он выглядит счастливым почти все время, особенно по поводу ребенка, но иногда создается впечатление, что он чего-то ждет, и я ловлю на себе его взгляд, когда он думает, что я не вижу. Не знаю, чего...
- Привет, Эш. Работаешь над книгой?
Она вскрикнула от удивления, затем быстро нажала на сохранение документа и закрыла его, прежде чем повернуться и увидеть, что Виктор стоит в дверном проеме ее домашнего кабинета.
- Ну, все, мы кладем паркет, и ты начнешь носить туфли для чечетки все время, что ты дома, - сказала она в качестве приветствия. – Батюшки, ты, как Бэтмен, все время незаметно ко мне подкрадываешься.
- Спасибо, все хорошо, а у тебя? – он снимал свое пальто, и капли дождя блестели в его темных волосах. – Не хотел тебя пугать.
- Все в порядке. Я не заметила, что уже так поздно, – она нервно засмеялась. – Я аж подпрыгнула, сказать по правде.
- Прости, милая, – он посмотрел на ее лицо и видимо не впечатлился тем, что там увидел, потому что его следующие слова были встревоженными, почти резкими. - Как долго ты работала?
- Эээ... ну...
Он замер, глядя на нее, руки на бедрах, и ее снова поразила его красота – она когда-нибудь привыкнет к его темной привлекательности?
- С позднего утра, могу поспорить, а значит, ты не пообедала.