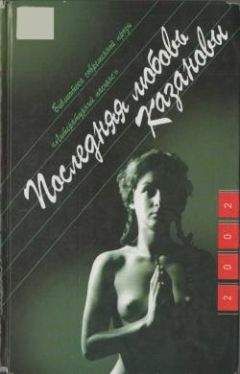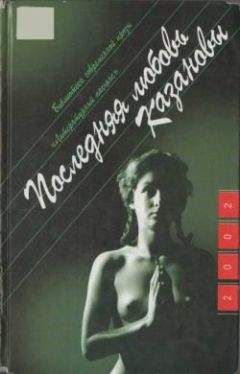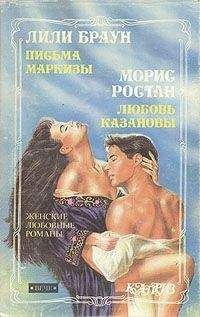Казанова еще не закончил с нами говорить, задавать вопросы о нас самих и нашем веке, не перестал расспрашивать о наших убеждениях и амбициях.
Сегодня мы подвергаемся нашествию новой завоевательной силы, всемогущего «либерализма», имеющего в основном протестантское и англо-саксонское происхождение и являющегося последним перевоплощением прагматических философий Гоббса и Локка,[35] имевших огромное влияние уже в эпоху Просвещения.
Совсем как солдаты Кортеса, которые грабили и убивали, размахивая крестом, новые конкистадоры продвигаются вперед под знаменем Прав Человека, действуя, как они уверяют, во благо личности. О каком «человеке» мы здесь говорим? На что похоже «я», которое не существует отдельно от должности, которую оно исполняет, которую использует и которой дорожит? «Я», которое вскоре сможет общаться лишь по мобильному телефону или через Интернет и которое трудится до седьмого пота, чтобы достичь некоего абстрактного среднестатистического уровня существования, вне которого оно неминуемо погибнет?
Казанова позволил мне провести какое-то время вдалеке от этого мира. Он осудил Революцию Робеспьеров, Сен-Жюстов и Бонапартов. Я, в свою очередь, оплакиваю мир, в котором мы живем теперь и который, без сомнения, является прямым следствием происходивших тогда событий. Таким образом, я ощущаю абсолютное братство с героем «Воспоминаний». Он стал для меня чем-то гораздо большим, чем просто главным героем повествования.
Внезапно мне пришла в голову грустная мысль: несмотря на свои ловкость, энергию и отвагу, Казанова не смог бы сегодня осуществить побег из венецианских Пломб. По крайней мере в этом смысле наш век имеет неоспоримое преимущество перед всем прошлым человечеством: решетки современных тюрем способны выдержать любое испытание. Особенно те, которые скрыты от людских глаз.
Но дадим Джакомо возможность… не слишком торопиться завершая свой рассказ. В любом случае, дадим слово нашему обольстителю, если оно еще может хоть что-нибудь добавить к сказанному…
Как-то на днях, отправившись поутру прогуляться по городу, я забрел случайно в одно странное местечко, носящее название Попугаев рынок. Развлекая себя разглядыванием этих забавных пичуг, я присмотрел одного совсем молоденького попугая в красивой клетке и спросил у хозяина, на каком языке он умеет разговаривать. Мне ответили, что птица еще слишком молода и пока вообще не говорит. В результате я приобрел ее за десять гиней. Решив научить своего нового друга какой-нибудь остроте, я приказал поместить клетку возле своей кровати и повторял ему по сто раз на дню: «Шарпийон еще большая чем ее мать».
При этом моей единственной целью было лишь желание поразвлечься. Уже через пятнадцать дней маленькая птичка с уморительной точностью выговаривала эту фразу, каждый раз сопровождая ее взрывом смеха. И хотя этим неожиданным дополнением попугай был обязан лишь самому себе, я нашел такую манеру очень забавной и был в полном восторге от его успехов.
Услышав однажды попугая и придя в восхищение от его репертуара, Гудар принялся меня уверять, что если я попытаюсь продать его на торговой бирже, то наверняка заработаю на этом пятьдесят гиней. Я тут же решил воспользоваться этой идеей для того, чтобы отомстить низкому созданию, так подло обошедшемуся со мной. А чтобы обезопасить себя от строгого в таких вопросах закона, я взвалил это дело на Жарба: поскольку он был индийцем, птица вполне могла сойти за колониальный товар.
В течение первых двух или трех дней мой говорящий по-французски попугай не привлекал большого внимания. Но как только кто-то из тех, кто был знаком с героиней этого похвального слова, прислушался к тому, что выкрикивало нескромное пернатое, кружок зрителей сразу увеличился. Начался торг. Желающие приобрести птицу сошлись на том, что пятьдесят гиней – это все же слишком, и мой индус потребовал, чтобы я согласился на меньшую сумму. Но я твердо стоял на своем, поскольку успел влюбиться в своего мстителя.
Через неделю Гудар повеселил меня рассказом о том, какое сильное впечатление произвел попугай на семейку Шарпийон. Поскольку продавал его мой индус, можно было лишь догадываться, что птица принадлежит мне и именно я являюсь ее учителем. Гудар сообщил, что сама Шарпийон нашла эту месть остроумной, но ее мать и тетки были вне себя от ярости. Они спешно проконсультировались с несколькими адвокатами, и те в один голос заявили, что нет такого закона, чтобы наказывать за клевету попугая, но они все же могут заставить меня дорого заплатить за эту шутку, если сумеют доказать, что он является моим учеником. Гудар немедленно заставил меня пообещать, что я ни в коем случае не должен сознаваться в том, что именно мне болтливая птичка обязана этим остроумным высказыванием, потому что достаточно двух свидетелей, чтобы я проиграл процесс.
Легкость, с которой в Лондоне можно обзавестись двумя свидетелями, поистине ужасающа и позорна для этой нации. Я видел собственными глазами невероятную вещь – надпись на окне, где прописными буквами было выведено лишь одно слово: «Свидетель». То есть за деньги здесь можно было с легкостью обеспечить себя фальшивым свидетелем.
В статье, помещенной в «Сент Джеймс Кроникл», говорилось, что дамы, оскорбленные неким попугаем с торговой биржи, должно быть, очень бедны и у них совсем нет друзей, иначе они давно бы купили симпатичного грубияна или что-то давно предприняли бы их близкие. И добавлялось: «Тот, кто обучил этого попугая, без сомнения, хотел таким образом осуществить свою месть и, надо признаться, проделал это с большим вкусом; судя по шутке, он заслуживает того, чтобы быть англичанином».
Повстречавшись со своим другом Эдгардом, я спросил его, почему он не захотел купить себе этого крошку-сплетника.
«Потому что, – ответил он, – оставаясь на своем месте, попугай доставлял удовольствие всем, знакомым с предметом его злословия». Жарб в конце концов отыскал покупателя, согласившегося заплатить пятьдесят гиней, а Гудар сообщил мне, что заплатил эту сумму лорд Гросвенор, чтобы расположить к себе Шарпийон, служившую ему иногда для приятного времяпрепровождения.
Что же до меня самого, то эта небольшая шалость положила конец моим отношениям с этой девушкой, на которую с тех пор я мог смотреть при встрече с полнейшим равнодушием, и ее присутствие отныне никогда не вызывало во мне ни малейшего воспоминания о том зле, которое она мне причинила.