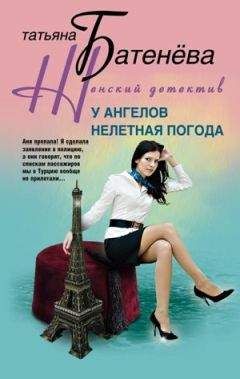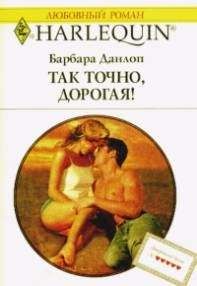уж сказать, заблуждение! Теперь, скинув ботинки и с наслаждением распрямив пальцы ног на прохладных досках пола, Макс подумал: он не так уж далеко от неё ушёл.
Комната — она была гостиной, спальней и кабинетом разом, а сбоку ютилась крошечная кухня, — была куда уютнее станции, этого не отнядь. Правда, в том уюте не было никакой максовой заслуги. Шторы эти, в зелёный горох, вешал не он, и изящные плафоны бра здесь тоже были до него. Письменный прибор, тяжёлые настольные часы, картина на стене, зеркало в раме, хрустальный графин на подносе, даже шахматы — всё это принадлежало Максу временно и стояло здесь неизвестно зачем. В нередких приступах тревожной жажды движения Макс всё здесь натёр и начистил, прожарил на солнце подушки, до блеска оттёр изголовье кровати, — так же, как на станции отмывал полы. Механическое действие, помогающее забыться.
В шкафу наглаженные рубашки и парадная форма на вешалках, а в ящике — ком из белья и портянок, перемешанный с комбинезонами, которые он даже не потрудился сложить после сушки. На потолке над кроватью — постеры с пошлятиной…
«Война закончилась», бравурно сказал Макс несколько недель назад.
В его доме война продолжалась. Все важные для Макса вещи помещались в одну сумку, и эту сумку он всё время таскал с собой. Здесь оставалось то, что было чужим или лишним; Макс жил в этой квартире так, как раньше жил в брошенных хозяевами гражданских домах. Дивизион, бывало, квартировали в эвакуированных городах, и тогда они занимали какое-нибудь пустующее здание, сбивали с дверей замки…
Это бывали разные дома, богатые и бедные, уютные и не очень. Макс спал в бывшей ночлежке для бездомных и будуаре мадам, уважавшей цветочные духи, а ещё в квартире новобрачных, где за зеркалом у разобранной постели висело белое платье, и в комнате мальчишки-подростка, собиравшего модели поездов, и на мансарде над галантерейной лавкой, в которой всё было покрыто вязаными салфетками.
Примерно так, как там, он жил и здесь. Проводил дни на базе с вивернами, за знакомой работой. Тренировал, чистил, болтал ни о чём. Шутил и смеялся.
Он в порядке, о да, он в полном порядке!..
Макс уронил сумку на пол и сам себе рассмеялся. Сел на край кровати, вытянув ноги, взъерошил ладонями волосы, с силой потёр лицо.
Хватит этого. И жалеть себя — хватит! Собери сопли, Максимилиан Серра, и возьми себя в руки. Ты не приведёшь в этот дом девчонку, да и она не пойдёт, и правильно сделает.
Потому что тогда они просто покроются плесенью вместе, а не по отдельности. Это на месяц выпасть в серую пустоту хорошо: отвлечься от привычных дел, что-то вспомнить, что-то понять, решить, будто всё-таки хочешь пожить ещё немного. Теперь нужно поймать эту мысль за хвост и сделать, наконец, что-нибудь.
Он снова потёр лицо ладонями. Маргарета сидела рядом с ним на кровати, очевидно ненастоящая и совсем как живая, искривлённая, сгорбленная, растерянная.
— Ты ведь… — тень Маргареты проглотила слово «герой», почти так же, как недавно сделала это настоящая Маргарета. — Ты всё сделал правильно. Тебе не в чем винить себя, ты знаешь? И наказывать не за что. Твоё место там, в городе, среди людей, среди…
Я убил тысячи человек, хотел сказать тогда Макс. После первого вылета меня трясло, как сопливую малявку, и не блевал я только потому, что было нечем, — одни болезненные спазмы пустого желудка и привкус желчи во рту. А потом я научился. Я привык. Я убивал людей, и часть из них, видит Господ, были отъявленными отморозками и заслужили свою смерть, а часть…
Ещё я убил ту женщину, что пела колыбельную над пустой коляской. И много других чужаков, у которых, как и у меня, просто не было выбора. Моя большая удача в том, что я мог смотреть на всех них с высоты, как на фигурки в игре, которые падают и ломаются. Моя большая удача в том, что лишь немногих из них я видел достаточно близко, чтобы они могли прийти ко мне в кошмарах.
Это и есть цена геройства — лица, которые ты не можешь забыть?
— Ты всё сделал правильно, — повторила тень Маргареты. Настоящая Маргарета не смогла найти слов, просто сидела рядом и держала его за руку. — Ты молодец.
Тогда Макс был здорово не в себе. У него дрожали руки, а взгляд бездумно шарил по розовому закатному небу и пушистым макушкам деревьев, так похожим на мох, и от этого внутри сжималась пружина. Эта пружина требовала вскочить на ноги, бежать, что-то делать, скрести полы до сломанных ногтей, умаяться до темноты в глазах.
Больше ни о чём Макс тогда не думал. Но — надо же — что-то в нём смотрело вокруг и запоминало. И сейчас вдруг он вспомнил стеклянный взгляд, с которым Маргарета говорила слово «правильно».
Макс думал, что знает людей, которые меняли после войны фамилию и бежали на край столпа, чтобы спрятаться там за безликими тряпками. Макс думал, что знает: все они предатели, всем им есть, в чём себя винить, все они должны сгнить в глуши, в нищете и позоре.
Теперь Макс подумал, что и сам делает почти то же самое. И его Ромашка…
— За что наказываешь себя ты?
Он бездумно провёл рукой по покрывалу, и тень Маргареты растаяла, как и не было. Осталась только вмятина от ладони и пыль, кружащаяся в свете.
Макс спрашивал несколько раз, прямо и исподволь. Но она отвечала уклончиво, отвлекала его поцелуями и прочими вредностями, заговаривала зубы. Маргарета выглядела человеком, отчаянно не желающим вспоминать о давней ошибке, — запутавшимся, безразличным и потерянным.
Маргарета заперла себя на старой, никому не нужной станции, как в тюрьме. Она прятала глаза и превращалась при всех гостях в привидение. Она считала, будто он, Макс, чего-то достоин, — уж в отличие от неё, конечно.
Для Макса не стояло вопроса, хочет ли он быть с ней. Маргарета была его девчонка, и Макс обещал ей вернуться.
А себе обещал — разобраться. Было бы кому врать: конечно, он простит её, что бы там ни случилось на самом деле. Макс ведь и сам — вовсе не господен лик, не правда ли? Ему ли притворяться, будто люди бывают только хорошие и плохие?
Она держала его за руку, когда Макс мог видеть лишь черноту и мох. Она помогла ему, хотя сама вряд ли знала, чем именно; Макс тоже не