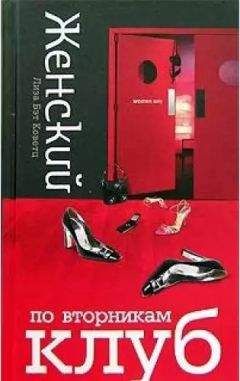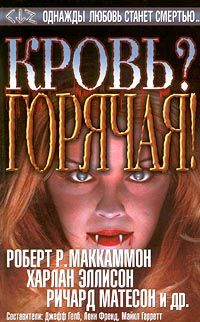Эйми обрадовалась, а он рассердился.
— Наши карьеры! — кричал он на нее. — Как это скажется на наших карьерах?
Но прошло уже много времени с тех пор, как у Эйми была карьера. У нее была работа и дорогостоящее хобби. Она чувствовала себя сорокалетней женщиной, которой не хватало силы воли пожертвовать шансом стать матерью ради эфемерной карьеры фотографа.
Когда она объявила ему о своем решении, он не выдержал и разрыдался. Сначала Эйми почувствовала грусть и вину, которые сменились холодным отвращением, когда рыдания стали слишком сильными, слишком наигранными, слишком манипулирующими.
— Что ты натворила! — кричал он, проливая крокодиловы слезы. Они струились по его лицу, пока он, драматично прислонившись головой к дверному косяку их спальни, смотрел, как она собирает вещи.
Она захлопнула чемодан и вышла к лифту. «Более, боже, боже, — повторяла она про себя, пока лифт спускался. — Куда я пойду? Что я буду делать? Как я буду жить?» Спускаясь, она слышала голос Скарлет О`Хара. Четвертый, третий, второй этаж. На сердце было тяжело от осознания того факта, что она ушла от него. Она спустилась в вестибюль и стояла там, гадая, куда ей пойти. Эйми хотелось спрятаться от его разочарования тем счастьем, которое росло внутри нее.
В крошечной комнатке отеля «Челси» Эйми стояла голой перед плохо освещенным зеркалом и с изумлением смотрела на свой живот. И вдруг, словно маленький гоблин, из ниоткуда появился страх одиночества и сжал ей сердце. Может ли она позволить себе быть матерью-одиночкой? Достаточно ли у нее сил для того, чтобы пройти через это одной? И в момент этого болезненного приступа паники раздался телефонный звонок. Он нашел ее и умолял вернуться к нему. Его звонок убил гоблина. Это был просто тяжелый момент.
— Я тоже скучаю по тебе, — сказала она.
— Я не могу жить без тебя. Ты для меня все. Если ты хочешь этого ребенка, то можешь его оставить. Я люблю тебя. Пожалуйста, вернись домой, Эйми.
Он забрал ее из гостиницы, оплатил счет и отнес чемодан в такси. Когда они вернулись в свою квартиру, он открыл дверь и перенес ее через порог. Поставил чемодан между ночным столиком и стеной. Поцеловал в щеку. А потом исчез.
He сразу. Постепенно. Он начал больше работать, брать больше заказов вне города, ездить в Токио так часто, что даже заговорил о приобретении жилья там. Он сказал, что грядущее отцовство вынуждает его относиться к карьере серьёзнее. Теперь им нужна безопасность. И наличные. Спустя годы критики в адрес друзей и коллег, которые продались коммерческой фотографии, он нырнул вниз головой в денежный бассейн. «Фотографу нужно браться за работу, пока он популярен», — говорил он ей, уезжая снова и снова. Все может кончиться завтра, что тогда будет с ними?
У него было море идей. У нее тоже, но он выражал свои, печатая фотографии размером 7x5 футов. Она помогала ему платить за бумагу, помогала делать огромные снимки. Ее работы были не менее достойными, но она печатала их на бумаге размером 14х11 дюймов[2]. По окончании школы она получила высшую оценку, а он — агента.
Прямо перед ней на стене висели их работы: всего два снимка, оставшиеся после выпускного курса в чикагской школе, когда у них была совместная выставка с однокурсниками. Тот, что поменьше, принадлежал ей, больший — ему. Это была одна из его непроданных работ, фотография размером 7x5 футов с изображением вагины, лишь слегка прикрытая введенными в нее пальцами. Даже человеку, разбирающемуся в искусстве, понадобилось бы изучать это произведение минуту-две, прежде чем он нашел бы нужный ракурс и сумел бы понять, какие части человеческого тела изображены на фотографии. Были достойные предложения, но он отказывался ее продавать, отвечая всем, что моделью была Эйми, а он никогда не продаст ее киску.
На самом же деле в тот момент, когда он сделал эту фотографию, Эйми, одетая в рваные синие джинсы и футболку, стояла слева от «киски», держа отражатель, который бросал на предмет съемок идеальный свет. Как кто-либо мог поверить, что эта вагина с тусклыми и лишь слегка завивающимися лобковыми волосами принадлежала Эйми, оставалось для нее загадкой. Несомненно, это была вагина чистокровной англичанки. У Эйми было много достоинств, но английская вагина в их список не входила.
«Что я сделала с нами», — думала Эйми, блуждая по квартире и разглядывая снимки. Она остановилась перед сделанной ею фотографией в стиле ню. Та же модель, в той же студии, но более целостный подход к изображению. И разумеется, не пять футов в ширину на семь проклятых футов в длину. «У меня хорошо получалось, — подумала она. — Так же хорошо, как и у него. Почему я сдалась?» Глядя на стены, она понимала почему.
Эйми никогда не смогла бы состязаться с вагиной размером 7x5 футов. Она никогда бы не смогла быть настолько храброй в своей работе. Она никогда бы не сумела убедить себя потратить тысячи долларов, взятые в долг на то, чтобы напечатать пятнадцать огромных снимков обнаженных тел. Она не была способна привлечь такие большие ресурсы ради достижения собственных целей. «Что, если у меня не получится?» — спрашивала она себя перед очередной попыткой. Мысль о провале вызывала у нее приступ тошноты. Неумение вкладываться в работу во всех смыслах и неспособность рисковать уничтожали ее креативность.
Он, наоборот, мог бы питаться риском и гадить неудачами. Он не задумываясь, выпросил у нее и у родителей в долг деньги, необходимые для того, чтобы напечатать эти первые пятнадцать великолепных снимков. Стоять перед изображением, которое положило начало его карьере, было для нее так же болезненно, как получить удар в грудь. Для него работа была на первом месте. И ему было наплевать на все остальное — и на все претензии, и на все ее пожелания видеть его достойным, ответственным человеком. Он не был вежливым. Он был дерзким и безрассудным. У него была карьера, а у нее — работа.
«Я могу все изменить, — думала Эйми. — Я могу быть храброй. Я могу рискнуть». Она сидела за кухонным столом и подсчитывала цифры — действие, обреченное с самого начала. Даже при всех затратах на няню, она думала, что будет в состоянии позволить себе не работать целый год при условии, что будет жить экономно и немного денег займет у матери. «За год, — размышляла она, — я, безусловно, смогу создать то, что позволит мне шагнуть к той жизни, которая, как я полагала, ждала меня по другую сторону колледжа. Жизнь, где я была бы независимой, где сама решала бы, как мне проводить время». Глядя на него, она понимала, что есть мир, где люди не вкалывают с девяти до пяти (или, как в случае Эйми, с десяти до полседьмого), мир, где люди полностью предоставлены самим себе. «Все, что мне нужно, это создать нечто удивительное, что понравилось бы всем, нечто прекрасное, что я смогу продать».