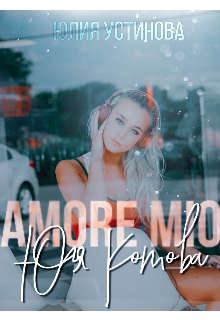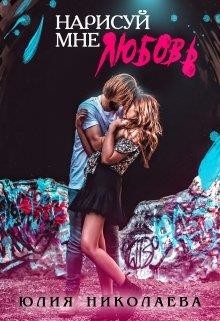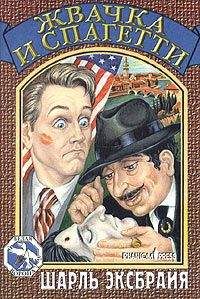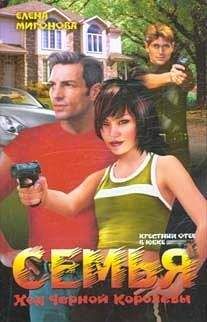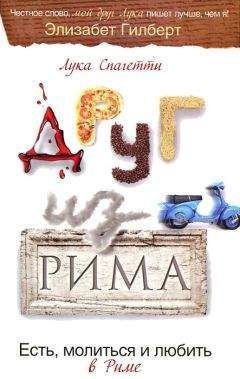Мне не аплодировали стоя, не кричали «Бис!» и «Браво!», но зато и не забросали тухлыми помидорами после моего спонтанного саботажа. Важным было то, что я смогла преодолеть себя, свои сомнения и сделать то, что умела лучше всего — устроить небольшую бурю в стакане. Гордиться особенно было нечем, впрочем, как и стыдиться, поэтому спустя несколько минут с чувством выполненного долга я присоединилась к Веронике и Кеннеди, чтобы выслушать очередного докладчика и перечитать сообщение Бредина, которое он прислал мне сразу же после моего выступления. Благодаря Даше парень смог наблюдать за мной в прямом эфире.
«Умница, хорошо выступила. Правда много воды, логика хромает, и вообще ты ушла от темы, но мне понравилось. Очень. В этом вся ты, Юля. Помнишь ты спросила, что в тебе особенного?.. Наверное, вот это. Твоя смелость и искренность. Пусть кто-то сочтет тебя импульсивной и странной, но я думаю, что ты необыкновенная. Никогда не меняйся… Кстати, насчёт бороды. Ты правда смирилась?»
Не в силах совладать с глупой улыбкой, я написала ответ:
«Конечно, нет. Я играла на публику».
На что Бредин ответил:
«Я так и знал»
И следом добавил:
«Я тоже тебя люблю».
И ни одного дурацкого смайла на несколько десятков символов. Боже, кто бы мог подумать, что Бредин окажется настолько идеальным?!.
Эпилог. Устами поэта
Середина ноября на Южном Урале — это аналог итальянской зимы, от которой так и веет неполноценностью и скупостью. Четыре сезона, которые предполагают, как минимум, четыре пары обуви, заставляют меня чувствовать себя едва ли не олигархом. Конец осени и зиму я люблю за вечные сумерки, а конец весны и лето — за поздние закаты и ранние рассветы. И мне нравится, как одно противоречит другому. Теперь я по-особенному стал относиться именно к осени, в том числе, и итальянской, той, что подарила мне несколько потрясающих недель. Но, как бы ни была хороша осень в Италии, я ни на что не променяю наше уральское межсезонье.
Мокрый снег сегодня зарядил с самого утра. Температура поднялась немногим выше нуля, и вчерашние лужи, скованные льдом, вновь ожили и заняты тем, что ловят сейчас у наших ног хлопья снега, тут же превращая их в воду.
Возвращаясь после пар, мы идем по школьному двору проторенной за годы тропой. Мне иногда кажется, что я могу дойти от дома до школьных ворот с закрытыми глазами. И теперь у меня совсем нет шанса свернуть не туда благодаря одной девушке. Я вижу, как крупная мохнатая снежинка касается ее щеки и безвозвратно тает, оставляя еле заметный след влаги.
— Чего уставился? — в привычной манере спрашивает Юля, повернувшись ко мне.
— Просто… вдохновляюсь, — честно признаюсь.
— Господи, Бредин, что за хрень ты несёшь?! — недоумевая, спрашивает Юля.
Так она пытается убить во мне поэта, о существовании которого пока не догадывается. Я, конечно, не Джаред Лето, и мои тексты далеки от идеала, они, вообще, далеки от поэзии. Я их даже не записываю, и они рождаются в моей голове и тут же исчезают, как эти снежинки. Но мне нравится рифмовать свои мысли, придавая им четкую форму, или безжалостно размазывать по воображаемой строфе. Последнее для меня гораздо приятнее.
— Скажи ещё раз, — прошу ее.
Юля берет меня под локоть.
— Что сказать?
— Ты совсем перестала называть меня по фамилии. Не думал, что буду скучать по этому.
Она смеётся над моими словами.
— Ты странная личность, Бредин, — говорит она, делая акцент на фамилии.
— Знала бы ты, как это приятно!
Покачав головой, Юля оглядывается на здание школы, которое мы почти миновали.
— Помнишь? — выдыхая облако пара, она указывает на крайнее окно третьего этажа, где находится кабинет химии.
— Котова, как можно быть такой злопамятной?
Я улыбаюсь, вспоминая один дождливый день, когда нам обоим было по четырнадцать, и уже предвкушаю ее реакцию.
Юля со всей силы дергает меня за локоть.
— Злопамятной, — ворчит она. — Ты выбросил в окно мою самостоятельную! Прямо в лужу!
— Ты порвала мою, — возражаю в ответ.
— Правильно! Ты назвал меня жабой! — вспоминает Юля.
— Жабой? — перекидываю сумку на другое плечо и обнимаю ее, на ходу прижимая к себе. — Как я мог? Извини. Я был… не в себе. Ты должна понять, у меня был трудный пубертатный период, — веду рукой по ее спине, притягиваю за шею и прижимаюсь губами к ее холодной щеке.
Она в шутку меня отталкивает.
— Почему был? Мы до сих пор ведём себя как два озабоченных подростка!
— Ну и ладно. Не всем дано добиться такого полного взаимопонимания, — авторитетно заявляю я, пропуская ее вперёд через школьную калитку.
А спустя пять минут мы стоим на лестничной клетке первого этажа и ждём лифт.
— Ты так и не сказал, куда вы идёте на мальчишник, — напоминает Юля.
— Я сам не знаю. Андрюха говорит, это сюрприз… А чего ты так напряглась? Ревнуешь?
— К кому? К Филину?! — Она хохочет, первой заходя в лифт. — Хотя вы столько лет были неразлучны… как… Тимон и Пумба… Я даже удивлена, что он женится на Селезнёвой, а не на тебе. Интересно, ты бы стал Филиным, или он — Брединым?
Оценив подкол дня, я шагаю к ней, наклоняюсь и без предупреждения начинаю целовать, упираясь ладонью в стенку лифта справа от ее головы. Юля мягко и нежно отвечает мне, дразнит мой язык своим.
— Как я хочу тебя, — выдыхаю, насладившись поцелуем, от которого у меня перехватывает дух.
— Кто у тебя дома? — шепчет она и с намеком смотрит на меня.
Я облизываю губы, сгорая от желания. Поворачиваюсь и наконец нажимаю кнопку. Двери закрываются, и лифт дергается.
— Как обычно, — отвечаю с досадой. — А у тебя? — спрашиваю безо всякой надежды.
— Как всегда, — в ее тоне различаю разочарование. Юля надувает губы и с шумом выдыхает через нос. — Это просто издевательство… — Она гладит мою шею под воротником куртки и отводит взгляд, размышляя о чем-то, пока едет лифт. — Поехали куда-нибудь… сдают же квартиры… — говорит мимоходом, когда двери лифта открываются.
До меня доходит, что она имеет в виду. Я качаю головой, недоумевая от ее предложения. Чувствую, как кровь закипает от мысли о том, на что моя девушка хочет меня толкнуть.
— Ты сдурела, Юля?! — одергиваю ее. — Не потащу я тебя ни в какие квартиры! Ты знаешь, кого туда водят?
Она запрокидывает голову и издает стон, который призван намекнуть на мой снобизм. Его у меня отродясь не было, и она знает это, но, по привычке, дразнит меня.
— Твою-то бабушку! Мне пофиг, кого туда водят! — и, конечно, она пытается спорить.
— А мне — нет! — отрезаю в ответ, давая понять, что больше не собираюсь обсуждать этот вздор.
— Ну и ходи… голодный, — бормочет она обиженно, нарочно шмыгает носом и отворачивается.
Я осторожно беру ее за подбородок и снова поворачиваю к себе, обнимая другой рукой.
— Я предложил тебе выход, почему ты упрямишься? Это бы все решило, — говорю, глядя ей прямо в глаза, и касаюсь холодной ладонью ее лица.
Но она отталкивает мою руку.
— Мы это обсуждали… То, что ты предлагаешь, это… дичь! — упрямо заявляет. — Мы… мы встречаемся меньше двух месяцев!
— И что с того?! — вырывается у меня. — Через год или два что-то изменится? Ты как-то по-другому будешь ко мне относиться?
— Надеюсь, нет.
Неопределенность в ее ответе меня нервирует.
— В смысле, «надеюсь»?
— Рома, откуда я знаю?! — спрашивает она.
— Зато я знаю! — говорю со всей уверенностью.
И продолжаю напирать.
— Юль, давай снимем квартиру, я найду работу, переведусь на заочку, — вздыхаю и прижимаюсь к ней низом живота, где по-прежнему ощущаю возбуждение.
— На заочку? — охает она. — Ты в армию захотел?
— А что? Я быстро сгоняю и вернусь.
— И все ради удовольствия спать со мной, когда вздумается?
— Да! — вылетает у меня. — То есть, нет. Конечно, нет!
— Все с тобой понятно, — хмыкает Юля.