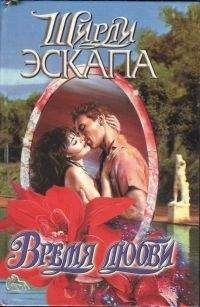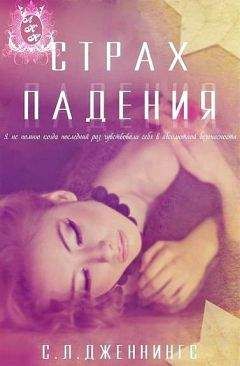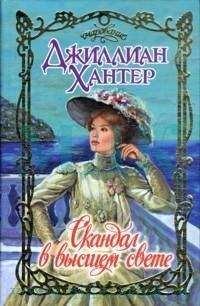Джина нервно огляделась по сторонам. Ну точь-в-точь кукольный домик, подумалось ей. В крошечной гостиной окна занавешены шторками из яркого ситца в мелкий цветочек. В спальне — кровать под веселеньким покрывалом и с туалетным столиком в ногах, у стены два стула с обивкой в тон обоев.
Вернувшись, Руфус сразу заключил Джину в объятия. Не переставая целовать, поднял ее на руки и осторожно положил на высокую кровать.
Потом опустился рядом на колени, вытащил из-под Джины покрывало и принялся за одежду. Впоследствии она с трудом могла вспомнить, каким образом ему удалось так незаметно ее раздеть.
Чувства стыда не было и в помине. Нервозность — да, но не стыд. Все, что произошло дальше, было совершенно естественно, правильно и… неизбежно.
В подобных делах Руфус был уже достаточно опытен, поэтому он подготавливал девушку нежно. Лаская, обвивая руками, целовал ее обнаженное тело — сверху вниз, проходясь языком по самым интимным местечкам. И овладел Джиной лишь тогда, когда понял, что она сама этого хочет.
— Тебе не больно, любимая? Ты только скажи, и я немедленно прекращу.
— Нет-нет, не останавливайся! Прошу тебя, не прекращай!
Непроизвольно вскрикнув от боли, Джина почувствовала, что не только их тела, но и души полностью слились.
— Ты рождена для любви, — нежно проговорил Руфус чуть позже.
— Конечно, — с готовностью отозвалась Джина, — потому что я рождена для тебя. — И, заглянув в его глаза, пылко добавила: — Руфус Картрайт, ты — мой единственный мужчина, и, клянусь, я никогда больше не полюблю!
Они лежали в обнимку, целуясь, дотрагиваясь друг до друга, исследуя, покусывая. Он шептал, что обожает ее тело, особенно — высокую грудь, а она в ответ прижималась все теснее и теснее.
Совершенно забыв о Кейт, о всех перипетиях этого долгого ужасного дня, Джина полностью раскрылась навстречу любимому.
Рассвело как-то неожиданно, и так же неожиданно Джина пришла в себя и почувствовала угрызения совести.
— Мне нужно срочно позвонить в клинику, — пробормотала она, выскальзывая из постели.
Когда Джина снова забралась под одеяло, Руфус спросил:
— Как у нее дела?
— Врачи говорят, все будет хорошо. Кейт спокойно проспала всю ночь. — Помолчав, она неожиданно для самой себя сказала: — Хотела бы я знать, кто папаша. — Опять помолчала и, качая головой, добавила: — Надо же, я и понятия не имела, что Кейт встречается с парнем.
— С ней все в порядке, и это самое главное, дорогая. Иди ко мне.
Руфус обнял Джину и опрокинул на себя. И снова они любили друг друга, долго и исступленно.
Потом, обессиленные, заснули, просто провалились в сон. Было уже девять часов утра, когда Джина проснулась. Руфуса рядом не было, но, услышав шум льющейся воды, она поняла, что он принимает душ.
Ей тоже не мешает помыться, решила Джина и вошла в ванную. Они начали брызгаться, как малые дети, но, когда Руфус принялся намыливать ее тело — везде-везде, — опрометью кинулись в спальню, забыв выключить воду. И только много позже, резвясь и хохоча, вернулись под душ и хорошенько вымыли друг друга.
Настало время уезжать. Руфус полотенцем просушил прекрасные волосы Джины и принес кофе из крохотной кухоньки.
Всю дорогу до клиники Парксайда они держались за руки, даже когда ехали в машине. Подведя Джину к дверям больницы, Руфус спросил:
— Мне пойти с тобой?
— Я бы очень хотела, чтобы ты был рядом, но лучше этого не делать. Понимаешь, нельзя, чтобы у Кейт возникла хоть малейшая догадка, что такая ужасная для нее ночь была самой счастливой в моей жизни.
— А как ты объяснишь, где провела эту ночь?
— Ну, если она спросит, скажу, что просидела в ночной кафешке, а если не спросит, промолчу.
— Хорошо. А как доберешься до дома Кэти?
— Естественно, возьму такси.
— Я так и знал, что ты это скажешь, — произнес Руфус, с обожанием глядя ей в глаза. — Ты же кошелек забыла!
— Ой, правда, — Джина рассмеялась. — Похоже, мне придется просить у тебя денег, как это делают девицы по вызову.
— Вот, держи-ка. — Руфус протянул ей две двадцатидолларовые купюры.
— Я обязательно их верну, — серьезным тоном заверила она.
— Ну конечно, конечно, — пробормотал Руфус, однако Джина почувствовала, что думает он совсем о другом. — Джина, сообщи мне о состоянии Кейт, ладно?
— Никто не должен знать о том, что с ней случилось… — начала было Джина, но Руфус быстро вставил:
— И никто не должен знать о нашей волшебной ночи.
— Спасибо, что ты так сказал, за это я люблю тебя еще больше.
— Так позвонишь?
Ей совсем не улыбалось опять разговаривать с этим напыщенным дворецким! Но не сообщать же об этом Руфусу!
— Когда лучше всего?
— В любое время, я весь день буду дома.
Едва Джина вдохнула пропитанный лекарствами воздух больницы, ее обуял страх: а вдруг с Кейт что-нибудь случилось?
Высокий, сухощавый, подтянутый, Теодор Картрайт в свои семьдесят пять был все еще красив и чрезвычайно элегантен. На теннисном корте он, конечно, не мог показывать такие блестящие результаты, как в дни юности, но назвать его слабым игроком было никак нельзя. Чтобы играть круглогодично, он построил отличный корт, и, когда наезжал из Нью-Йорка — а это теперь случалось все чаще, — рядом постоянно находился Петер Андерсон, личный тренер Теодора, чтобы поддерживать его в форме.
С годами консервативный патриотизм Теодора разросся до непомерных размеров, и именно это послужило причиной того, что уважение и привязанность к сыну практически исчезли. Может, все было бы иначе, если бы Марк так не поддерживал Кеннеди. Марку, да и Фрэн тоже, не хватило здравого смысла помалкивать о своих привязанностях, поэтому отношения Теодора с семейством сына постепенно переросли в необъявленную гражданскую войну.
С точки зрения Теодора, если Франклин Рузвельт предал свой класс, то Кеннеди и вовсе мошенник. К тому же он не принадлежит ни к какому классу вообще. Выскочка, одним словом.
Сколько Теодор ни приглядывался к сыну, он не мог найти в нем ничего общего ни со своей женой, ни с самим собой. Старшие Картрайты всегда отличались силой воли, доминировали над окружающими, Марк же был мягок, учтив, обходителен, будто постоянно оправдывался за то, что родился в такой могущественной семье, считая сей факт чем-то несправедливым.
Даже то, что Марк и Фрэн завели не собак, а каких-то нечистокровных уродцев — помесь шотландской овчарки с борзой, — тогда как у родителей всегда жили немецкие овчарки, казалось Теодору явным проявлением непростительного инакомыслия. Сводило с ума и то, что сын с женой вносили огромные средства в поддержку двух невразумительных литературных журнальчиков, какого-то театрика, авангардистской художественной галереи и некоммерческой радиостанции. А ведь могли бы, кажется, делать постоянные вклады на кафедру Гарварда или, скажем, Принстона! Просто ребячество, да и только!