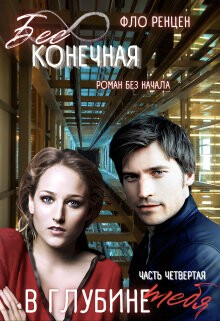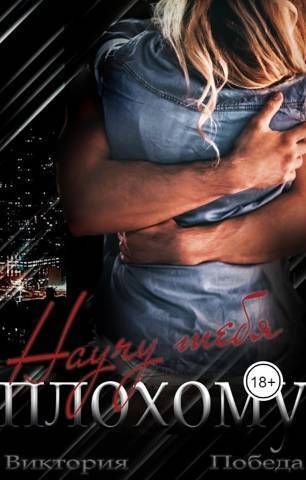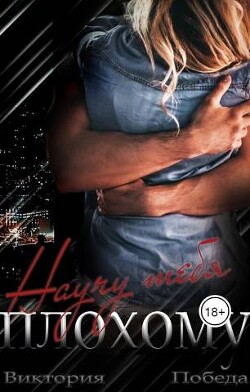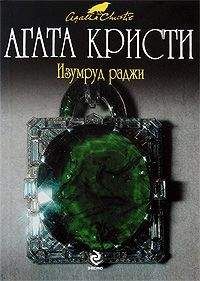Потом до меня доходит все и уже тянет впасть в истерику, наехать на него... Ну сколько уже ж можно... Ну сколько можно тянуть эту чертову канитель... Ну сколько можно портить крови себе, мне, той... девушке, так и не ставшей сегодня... или не сегодня... его женой... Вот глупый... какой же глупый...
Впервые мне хочется назвать его не волком, а глупым, нашкодившим волчонком, который еще слишком мал, чтобы его бояться, но шкодить может уже порядочно. И поэтому — вот хвать его за загривок. Хвать за затылок его, который, кажется, у него не поворачивается, а всегда смотрит только прямо. Вот хвать его — и мордой макать в нашкоденное. И пусть грызется он своими острыми зубами — его рано еще бояться.
Нет-нет, не хочется мне делать этого и чувствую я только спокойствие и умиротворение. Не торжество, не радость — как тут можно радоваться?..
Присматриваюсь к нему получше, пытаюсь вычислить, во что он, собственно, одет. Может, он и не собирался никуда сегодня?
Не в смокинге он, конечно, не в костюме, а так — рубаха белая, а сверху пиджачок. Брюки — или не брюки?.. Приличная джинса такого светло-серенького цвета.
— Я не женюсь.
— Да что ты? — говорю только. — Это ты зря.
— Я решил. Ты меня отправила. Че, разрешила, да?.. А она ждала... Но я так решил.
— Она все еще ждет?... — спрашиваю с внезапной жуткой догадкой.
— Не-е... Уже не ждет... — он смотрит пристально в меня, чуть ли не мечтательно так смотрит, и говорит — то ли мне, то ли самому себе рассказывает: — Заебалась. Заебала, верней. Меня. А я все понял. Ей — раз, в лоб... что не стоит нам все это. Не стоило. Что... не нужна она мне. Не она нужна, верней... Она не поверила... Говорила, я «её». Я — ей: не «её» ни хуя. Она орала — жизнь на меня угробила... столько сил ебнутых потратила... на лечения эти… и вообще… А я — ей: ну и на хер тратила «жизнь»… кто заставлял тратить… мою — тоже… Все ж знала... видела же все... Доебывалась, мол, секс-зависимый я, что ли... Я ж... не только с тобой... когда с тобой уже не...
Блин, я так и чувствовала... Зачем-то заваливает, грузит он меня всем этим перед посадкой, будто отчитывается. Считает необходимым сообщить.
Ладно, раз считает:
— И с кем же?.. — спрашиваю только. — С одной или...
— Не с одной. Но всех звали «Кати». И похожи все были только на Кати.
Не успеваю перестроиться, понять, что мне теперь с этим делать. Пойму потом.
И еще кое-что:
— Я тебе тогда не говорил про бизнес... что мне фирму открывать запретили — думал, ты связываться не захочешь. Побоишься.
— Теперь знаешь, что не боюсь?
— Типа.
Потом — ну, кто бы сомневался. Да кто бы удивлялся тому, что он делает потом: хватает меня в охапку, припадает ко мне губами, целует, целует, целует... А я — его. А когда бывало иначе? Так будет всякий раз, когда мы будем видеться. Пока не научились по-другому.
— Мне пора, — говорю ему.
— Надолго ты?
— Пока не знаю.
— На следующей неделе ждать тебя?
Что он там опять задумал?..
— Ой, слушай, дай время, а... — говорю полушутя-полусерьезно, устроившись в его руках. — Там, знаешь ли, итальянцы... у них проект этот — не хухры-мухры... И Тель-Авив у Каро, «а после — как пойдет»... Неделей можно и не отделаться.
— Да?
Его глаза не верят мне. В них тоска, будто у хищника, запертого в клетке.
Но только он — не тупой зверь, а он. Поэтому тоска и дикая звериная печаль сменяются сердитой решимостью.
Он сжимает меня крепче, придвигается ближе:
— Попробуй только.
— Что «попробуй только»?
— Не вернуться.
— Да? — осведомляюсь язвительно. — И что ты сделаешь?
— Так я тебе и сказал. Найду, ты ж знаешь.
— Попробуй.
И говорю ему просто, чтобы, если что, покуда шел ко мне. Припоминаю, что у него не оставалось уже ключей и прибавляю, чтоб, в случае чего, спросил у мамы.
Не знаю, сколько бы еще продолжался наш этот прощальный разговор. Нам, чтобы разъединиться, оторваться друг от друга, всегда требовалось вмешательство извне, некий форс-мажор, который теперь является нам, мне приглашением на посадку.
— Не лети, — предлагает он, не выпуская меня из объятий.
В его глазах нет обреченности и нет надежды. Его глаза выражают ровно то, что он сказал: «Не лети».
Это хорошо, если так. Когда все карты открыты и будущее — это чистый лист.
— Давай там, — увещеваю его, высвобождаясь, — осторожнее. Ты... сильно не гуляй. Не напивайся. Не кури.
— Не лети.
Он смотрит так же ровно, не поворачивая головы, не дергая шеей — нет, он настаивает, что карты открыты.
Забираю у него руку — вцепился, схватил ее, не отпускал. Дурной.
Отклеиваю взгляд от его взгляда.
Следующий раз вижу его глаза уже спустя минут пятнадцать, когда прошла паспортный контроль — он все еще там, он ждет.
Я вижу сквозь толстенное стекло, как губы его еще один раз, третий, произносят:
«Не лети».
Потом — не помню. Не знаю, что вижу. Дальше иду на автопилоте, а перед глазами — только глаза его и больше ничего.
Не знаю, когда и как увижу их снова, эти глаза. А что — с него ведь станется. Когда вернусь, то очень неслабо будет застать его уже женатым.
Мы что-то долго не взлетаем. Вот — теперь, кажется, сдвигаемся с места, если опять не остановят. А и правильно, нечего спешить — лучше перед взлетом еще разок как следует все проверить. Это ж важно.
Посмотрим, говорю себе, смотря в иллюминатор, пытаясь найти преграду для своего взгляда, который в этот миг, так воображаю о себе, того же цвета, что и кулисы за стеклом.
Кулисы раскинулись перед моим взором. Они показывают мне, что в этом мире все бесконечно.
Может — и не может
или
Как вам угодно
(ЭПИЛОГ,
хоть, в общем-то, не эпилог)
Вот, видишь ты, не мы одни несчастны:
Играют же в театре мировом
Так много грустных пьес —
Грустней, чем та,
Что здесь играем мы!
***
Таков уж скромный мой каприз —
Себе взять то,
Чего никто другой не хочет
***
Весь мир — театр.
В нем женщины, мужчины — все актеры.
У них свои есть выходы, уходы,
И каждый не одну играет роль.
Шекспир, «Как вам понравится»
Все может и не может получиться.
Мы любим, мы, кажется, решили и мы — почти, вот-вот и... нет.
Я пока так и не взлетела, и я могу и выйти, а он, если бы очень захотел, мог бы остановить самолет. Но мы не сделаем — ни он, ни я. Поэтому мы обречены.
Мы сами обрекли себя. Давно обрекли. Мы могли бы обречь себя обратно, но очень долго не считали нужным, разбрасывались, игрались. За это мы должны быть наказаны. Не судьбой — судьбы нет. Вернее, судьба — это мы, а мы друг другу все сказали. А когда надумаем сказать что-нибудь новое, то будет поздно.
Нет-нет, мы сами накажем себя.
Не мой авиалайнер-горемыка, хоть чуяло мое сердце — проверили б его как следует перед взлетом и не пришлось бы мне кувыркаться в бездну, не видя родных глаз.
Не его стародавние счеты с мутными личностями, хоть говорила ему, не стоило бы связываться — и не пришлось бы ему лежать порезанному, истекая кровью в какой-нибудь берлоге, где рядом нет меня.
Но нет, не обстоятельства — мы сами. Мы не простим друг другу, что еще раз отпустили, свалив на форс-мажор или обиженные чувства, не приложили максимум усилий, потому что думали: не стоит. Успеется.
Ошибались. Не успелось.
Мы не заслуживаем друг друга — так думали и ошибались в этом. На самом деле никто никого не заслуживает, а все просто берут тех, кого хотят и кого могут взять. Она не смогла взять его, а я не захотела. Он захотел меня взять, но не смог. И «нас» все нет как нет.
Но... какого черта. Если нет судьбы, вернее, если судьба — это мы, то что же мешает нам из «нет» сделать «да»?
Он сам сказал: была я — не было других. А когда меня не стало, то все другие стали похожи только на меня. Значит, никакой не переход я, а то, к чему он стремился. И я смогу то, что не удалось ей. То, что никому не удавалось. Достаточно самой в это поверить.