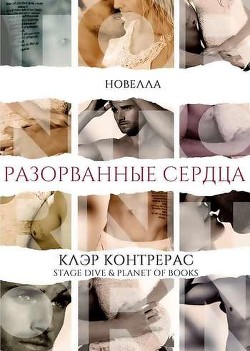Когда Дюшка жил здесь, было гораздо легче.
Все было совсем по-другому, пока не ушел папа.
И мама тоже была другой. Она не цеплялась к нам с Дюшкой по мелочам, а сейчас пакет с мусором выбешивал ее одним своим присутствием.
— Наведи порядок в своем свинарнике! — первая фраза с утра.
Она прилетает в спину, и я спешу завязать шнурки быстрее, чтобы не выпалить как хочу свинтить куда-нибудь — хоть в комнату общаги, — лишь бы не слышать этого гавканья. Кутаясь в куртку, иду с пакетами на улицу к мусорным бакам, грохаю их внутрь, чувствуя затылком взгляд провожающий этот всплеск.
— Вот накоплю ещё немного и свалю!
Шепчу себе под нос, будто мама может услышать, и топаю обратно, рыча на исчезнувшую из кармана пачку сигарет и зажигалку — снова ползала по карманам и забрала. Не потому, что курить в двадцать нельзя, а потому, что курил папа, и мы с Дюшкой повторяем его привычку. Которая раньше не бесила. Раньше все было совсем по-другому. Сейчас, с каждым новым днем, становится только хуже. И стены в квартире становятся тоньше.
С поганым настроением еду на работу в “Прованс”. С поганым настроением иду переодеваться в подсобку, но там, увидев на крючке вешалки пальто Таракана, оно ухает еще ниже. Сегодня должна была быть смена Ани, второго менеджера, только ее нет. Зато есть Таракан. И один только факт его присутствия, упав на “приятное” утреннее пробуждение и мусорный конфликт, подбешивает раньше, чем увижу гаденькую улыбочку под сутенерскими усишками и не менее гаденький взгляд за стеклами очочков. Спрятав дреды под шапочку, беру перчатки и фартук, топаю к своим раковинам набирать в них воду. Зло плюхаю в левую остатки моющего средства из бутылки и вздрагиваю от неожиданности, когда решаю сходить за новой и выскочив из складского помещения чуть не влетаю в грудь шефа Искаева.
— Ой! Здравствуйте, Владимир Дмитриевич. Извините.
— Привет-привет, ангел Чистоты, — широко улыбаясь, мужчина отходит в сторону, чтобы я могла пройти на свое рабочее место, но посмотрев мне в глаза начинает хмуриться. — Что-то ты сегодня мне не нравишься. Пойдем-ка это исправим.
— Я… Владимир Дмитриевич… Павел Николаевич же…
— Идем-идем, — положив ладони мне на плечи, Искаев разворачивает меня в сторону кухни, мягко подталкивает к дверям в свои владения и кивает на небольшую коробку рядом с ними. — Бахилы надень, грустный Ангел. Сейчас я тебя вылечу.
Сам Искаев переобувается из тапок, в которых ходит исключительно от своего кабинета до кухни, в белые кеды, тщательно моет руки, как хирург перед операцией, и вытирает их бумажным полотенцем. После кивает приветствию сушефов и поваров и показывает мне на столик в углу его царства вкусов:
— Садись.
Только я, как и он, сперва мою руки. Маниакальная мания чистоты у шефа Искаева давно стала одной из его визитных карточек. Но самая главная — вкус его блюд. Даже самая простая яичница превращается в изысканный деликатес, если эту яичницу приготовил Владимир Дмитриевич. И он, обойдя своих подчиненных и проверив каждого, несколько секунд смотрит на меня, чтобы потом щелкнуть пальцами и улыбнуться:
- “Крок-мадам” и… карамельный кофе. Женя!
— Есть карамельный кофе, Шеф! — громко ответил су шеф.
На моих губах появилась невольная улыбка, а Владимир Дмитриевич увидел ее и подмигнул мне:
— Вот так уже гораздо лучше.
И я улыбнулась шире. Ну как можно не улыбаться, когда твое настроение решил поднять ни кто иной, а сам шеф Искаев? Мог ведь пройти мимо или просто что-нибудь сказать, отмахнувшись, но вместо этого привел в свою святая святых и готовит завтрак какой-то посудомойке, будто ему есть дело до ее настроения. Только почему-то верилось, что есть. И даже факт того, что девушка Фила была дочерью Искаева грел душу — у такого отца могла быть только самая лучшая дочь. И представить рядом с Ванлавочкой другую уже сложно. Э-э-эх…
Неисчезающие и возникающие из ниоткуда на столешнице рядом с раковиной горы посуды, суета официантов и мелькающий то тут, то там Тараканище. Полная посадка в “Провансе” не была чем-то из ряда вон выходящим. Скорее наоборот. Ресторан располагался в центре города, в нем работал лучший шеф, официанты обеспечивали лучший сервис, а поставщики привозили свежайшие продукты — залог успеха и достижений каждого из причастных, к коим я естественно причисляла и себя. Хоть и была посудомойкой. Поэтому каждая тарелочка или бокал отмывались мной до скрипа, тщательно выполаскивались в чистой воде и сушились в сушилке, чтобы на поверхностях не осталось даже намека на развод или какой-нибудь микробинки. Перед тем, как на тарелку торжественно возложат мраморную говядину, ее, конечно же, еще раз протрут, только я драила все с такой тщательностью, будто в любой момент в служебное помещение “Прованса” может войти какая-нибудь принцесса или королевна. А у них нюх на плохо вымытое и аллергия на недостаточный блеск у приборов. Как у Таракана Николаевича. И естественно он периодически возникал у раковин, контролируя скорость моей работы и ее качество. Переставлял несколько уже высушеных тарелок или бокалов к грязным с гадкой улыбочкой и испарялся в зале. И ведь не было в этом ничего удивительного. Только сегодня каждая такая перестановка капала на нервы. И больше всего злило, аж до трясучки, когда идеально чистая посуда опускалась не рядом со стопкой, а обязательно в самую жирную тарелку. Потому что ничего ты на это не скажешь — старший менеджер же, и ему виднее как и куда ставить. Молча провожала взглядом, снова мыла, полоскала и сушила, давя растущее, как на дрожжах, желание спросить что именно не так. Но сейчас пикнешь хоть слово и автоматом вылетишь с работы — Тараканыч церемониться не будет. И что потом? А ничего хорошего. После маминого молчаливого фырканья на невынесенный вовремя мусор, мечта свалить и снять себе хоть какой-нибудь угол, где буду сама себе хозяйкой, пустила такие глубокие корни, что я всерьез принялась размышлять о переезде. Благо, что работа позволяла думать о чем угодно, а думалось мне очень плодотворно. В голове сам собой нарисовался список требований, достаточно скромный, и на перекуре, на который Тараканыч меня великодушно отпустил, я полезла гуглить объявления о сдаче жилья в аренду. О покупке квартиры с моей зарплатой речи идти не могло от слова совсем — если уж Дюшка с Лесей ипотеку взяли, то мне-то одной куда?
Вот только и с арендой я такой облом словила, что реветь захотелось. За меблированную и не самую хорошую однушку в жопе мира просили всю мою зарплату и сверху коммуналку, а то, что я хоть как-то могла потянуть, по фотографиям вызывало стойкий рвотный рефлекс — клоповники, куда заходить страшно, не то что в нем оставаться и жить. Такой вот реализм в его самых лучших проявлениях. Можно конечно подбить Ляльку с Люлькой скинуться и снять уголок на троих, но и тут птичка обломинго заклекотала своим клювиком — у Корюшкиных университет и стипендия каждую сессию под угрозой исчезновения. Одна троечка и все, прощай денюжка. Больше для самоубийства, чем ради интереса, глянула на цены у хороших квартир и обреченно потопала к своим вилкам-тарелкам — хренушки мне, а не переезд с вольницей.
До конца смены я провалилась в какую-то прострацию. Не замечая ничего вокруг и Тараканыча, зачастившего к раковинам, мыла посуду, как автомат, а не человек. И когда потянулась за очередной стопкой, но не обнаружила ее на столешнице, залипла. Хлопнула ресницами, после еще раз. На автопилоте помахала ладошкой двум официантам в куртках и шапках и только потом дошурупила, что смена закончилась и тарелок до завтра больше не будет. Выпала, называется, из реальности. И возвращение в нее, честно говоря не особо радовало.
Пока намывала раковины и убиралась на своем рабочем месте, взвешивала мысль податься в гости с ночевкой к Дюшке. Пока переодевалась, догадалась кому мама позвонит и вставит по первое число, если я не приду домой. Вышла на улицу с поникшей головой, прошла несколько метров по скрипучему снегу и остановилась, как вкопанная, уперевшись макушкой во что-то мягкое.