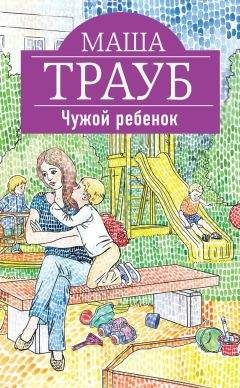обвинительную речь. — Вон там! И еще один. С другой стороны.
Я торопливо прикрываю ладонью указанное место, понимая, что полностью палюсь. Накатывают злость одновременно с диким смущением. Злюсь я, естественно, на Хазарова, совершенно потерявшего этой ночью контроль, как оказалось. Иначе с чего бы ему меня метить? И вот как теперь перед ребенком объясняться?
— Вань… — выдыхаю, собираясь с силами, — это… Это сложно объяснить…
— Ничего не сложно, — Ванька встает с кровати, на которой до этого валялся с ногами и хмуро изучал меня, в волнении бегающую по периметру комнаты. А как тут не бегать, если ничего толком опять не сказали, посадили здесь, позволив только Ваньке зайти и остаться, а сами куда-то ушли в глубь дома?
Нет, я пыталась сопротивляться и говорить что-то, но ни одного моего слова никто не услышал.
Хазаров просто окинул, как обычно, черным, нечитаемым совершенно взглядом, и спокойно пошел дальше по коридору. За ним умелся скалящийся безумно Каз, которого, похоже, вся эта ситуация с погоней и стрельбой забавляла и заводила, прохромал Ар, подмигнувший мне утешительно, и замыкал это шествие, а вернее, закупоривал, как пробка бутылочное горлышко, тот огромный мужик, что сидел в машине Хазарова на переднем пассажирском.
Я открыла рот, поизучала бессильно мощную, совершенно бесчувственную к моим словам и эмоциям спину неизвестного мне мужчины, поняла, что сопротивление бессмысленно и глупо в такой ситуации, закрыла рот и злобно хлопнула дверью.
Ванька, уже успевший к тому времени развалиться на моей кровати, меланхолично жрал печенье и на мои истерические вопросы, что тут было и как он вообще, отвечал с удивленно вздернутыми бровями: ничего не было, он поиграл с Серым в шахматы, сделал его три раза, потом лег спать… Проснулся, а меня нет… И Серый ничего не говорит. А в доме сидит полно незнакомых дядек с оружием. Они не особо разговаривали, но и не гоняли. А один даже дал посмотреть пистолет. А потом оказалось, что ночью привезли Ара, всего избитого. И девчонка Лялька вокруг него все прыгала, ее тоже привезли с ним вместе. Лялька прикольная, только боится всего. Ванька ей рассказал про меня и про Хазарова, и про маму. А про то, из-за чего мы сюда попали, не рассказывал, что ж он, дурак, что ли, совсем?
Короче говоря, основное я из его потока слов вычленяю, понимаю, что ребенок все это время не был напуган, переживал, конечно, но больше потому, что меня рядом нет. Серый ему сказал, что у Хазарова и меня дела в городе, заночевали там, утром вернемся. И Ванька терпеливо ждал…
И вот теперь, едва я выдохнуть успеваю, спрашивает про Хазарова. Находит момент для удара, засранец. Далеко пойдет, хотя в этом, как раз, никаких сомнений нет, зная его наследственность…
И вот как ему объяснить сейчас то, чего я сама не понимаю?
Ванька ощущает мое вранье, мою попытку удержать информацию, и бесится.
Вскакивает с кровати, встает передо мной, заставляя вспомнить те моменты, когда он выходил из себя при любом разговоре о детдоме или пьющей маме.
— Все вы говорите, что сложно, — продолжает он жестко, — когда хотите соврать и не знаете, что!
— Кто все, Вань? Ты чего? — жалко лепечу я, слыша себя со стороны и понимая, как сильно все не то. Если бы со мной таким тоном говорили, то первая бы в рожу дала за вранье.
— Все! Взрослые! Мамка тоже каждый раз: “Это сложно, сыночек, это непросто объяснить”, — передразнивает он Тамару, — а там нихера сложного: просто вам, бабам, нужен мужик! Вот и все! И вы ради этого готовы что угодно делать! И на все наплевать!
— Ваня!
— Она меня дома одного оставляла, а сама с мужиком уходила, — продолжает он, не слыша моего жалкого негодующего возгласа, — на ночь, на две! На двое суток! А я дома был! Один! И жрать нечего было! И дверь закрыта на замок! Снаружи! Она думает, что я не помню, мелкий был… А я помню! И помню, как домой приводила, а мне говорила тихо сидеть! Я думал, хоть ты не такая…
Он неожиданно отворачивается и дергается к двери, но я успеваю.
Хватаю его за руку, дергаю к себе, обнимаю.
Ванька сопротивляется, сопит злобно, выворачивается из моих рук, он сильный и сейчас вообще не играет, но я, все же, сильнее, терплю его тычки локтями, держу, прижимая к себе за затылок и смаргивая злые слезы.
Никакой жалости! Никакой! Не нужна она ему!
Просто поддержка, просто участие, просто дать понять, что он не один больше, что он никогда не останется больше один во всем мире…
Наконец, Ванька утихает и только всхлипывает мне в плечо.
А я говорю, вообще не подбирая слов, потому что нельзя сейчас подбирать, нельзя врать.
— Я никогда так не сделаю, Вань. Никогда. Ни один… мужчина не стоит твоих слез. Я тебя не оставлю. А ты тогда меня не оставляй, договорились? Я очень переживала за тебя сегодня…
— А… он? — помедлив, спрашивает Ванька, и я отвечаю так же честно:
— Он прислал сюда всех своих людей. Всех. Как ты сам думаешь, переживал или нет?
Ванька сопит, ничего не отвечает, только обнимает меня все крепче. И я не могу сдержать слез, торопливо моргаю, понимая, что нельзя сейчас, не нужно ему видеть, и продолжаю говорить:
— Ваня, ты прости ее… Она… Так бывает, что человек не может собой управлять…
— Я на нее не обижаюсь, — шепчет он, — она просто болеет… Но я так испугался, что ты сейчас… с ним… а я…
— Не было ничего, — отвечаю я так же тихо, — ничего, о чем стоит говорить и думать. Тебе. Я тебя никогда не брошу.
— Да? — выдыхает Ванька, и столько надежды в его голосе, что сердце сжимается от боли.
— Да, — твердо говорю я. — Да.
Ванька обнимает крепче, веря мне безоговорочно.
И я сделаю все, чтоб не обмануть его веру…
_______________________________
Этот апрель бьет по ресницам
Солнечный луч ярок и чист
Мама, мечтаю, пусть мне приснится
Светлого счастья будущий лист
Ты говорила, что предо мною
столько веселья, и впереди
майское небо сплошь голубое
майское солнце лишь по пути
как-то внезапно солнце в закате
как-то случайно тучи вокруг
мама, мне страшно… может быть хватит
неба и солнца, сомкнутых рук…
ты говорила, что буду