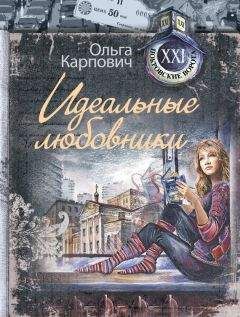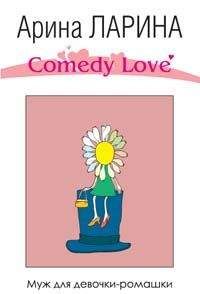Вместе со Стефанией мы ездили и на могилу Эдварда. Молча стояли у каменной плиты, с которой на нас смотрели смеющиеся озорные глаза в изумрудных искрах.
Черкасова тогда, разумеется, так и не привлекли к суду, отпустили с какой-то смешной отговоркой вроде «за недостаточностью улик». Однако уже через полгода хозяин Мосстройбанка был застрелен неизвестным в собственном подъезде. Убийцу, конечно, не нашли, да, наверно, не особенно и искали. Столько их, вчерашних уголовников и нынешних хозяев жизни, гибло тогда, в середине девяностых, что, должно быть, всех сил российской милиции не хватило бы, чтобы раскрыть хоть половину этих преступлений. По официальной версии, Ваньку-Лепилу застрелил кто-то из конкурентов, однако иногда, глядя на сильную могучую руку, обнимавшую талию Стефании на званых приемах, на крупные черты бронзового лица, я невольно вздрагивала и ломала голову, уж не Анатолий ли Маркович поспособствовал отправлению этого матерого волка на тот свет. Однако, кто бы ни избавил мир от склизкого гада, сделал он это очень вовремя. Иначе, могу поклясться, Стефания выследила бы его и собственноручно воткнула нож в сердце убийцы ее сына. Я видела это в ее черных глазах, кипевших ненавистью, когда она слушала в новостях сообщение о гибели российского бизнесмена. Впрочем, возможно, тут уже опять вступает в дело моя неубиваемая фантазия.
* * *
О Меркулове мы больше не слышали, за исключением одного раза. В тот день посыльный принес в дом Стефании завернутый в плотную упаковочную бумагу плоский прямоугольный предмет, вызвавший переполох среди охраны. Битый час они простукивали, прослушивали и просвечивали его, а когда наконец решились снять упаковку, хозяйка дома истерически вскрикнула. Под слоем толстой серой бумаги оказался портрет Эда. Высокий, тонкий, в распахнутой на груди гавайке, он стоял, облокотившись о борт корабля, щурился на яркое солнце и смеялся. В глазах его плясали золотистые блики, скулы осыпаны были мелкими веснушками, отливающие медью кудри трепал речной ветер.
Со Стефанией сделалась истерика. Вызванный по телефону доктор долго суетился вокруг звезды, извлекая из чемоданчика разные снадобья и таблетки. Анатолий Маркович собирался уже упрятать картину куда-нибудь в подвал, когда Стефания вдруг успокоилась и ровным голосом объявила, что повесит ее в своем кабинете. Там она и помещалась вплоть до тех пор, пока городской дом не продали, а после переехал вместе с хозяйкой на эту маленькую приморскую виллу.
Сейчас мне трудно уже восстановить в памяти все детали, все подробности проходивших лет. Я помню лишь пустые, бессмысленные даты. В 2004 году умер Голубчик. Совершенно неожиданно, от инфаркта. Чертов баловень судьбы и тут умудрился вытащить счастливую карту, получить смерть быструю, безболезненную и не унизительную ни для умирающего, ни для ухаживающих за ним близких.
После его смерти Стефания окончательно ушла со сцены, продала городской дом и поселилась у моря.
Мое имя все чаще мелькает на газетных разворотах. Мои книги хорошо раскупаются, и издатели давно уже не диктуют свои условия, а подобострастно осведомляются о моих пожеланиях. За плечами у меня два не слишком удачных брака и несколько вполне сносных романов. Внукам, если, конечно, они когда-нибудь будут, я смогу с ясной улыбкой сказать, что жизнь удалась, я добилась всего, чего хотела, — обеспеченности, известности, собственного дома в теплой и счастливой стране. Отчего же тогда я так мучительно боюсь оглянуться? Не потому ли, что тогда, в этом беспощадном зеркале заднего вида, отразится, что в жизни моей только и было — две безумные недели на борту белоснежного теплохода. Только это и имело в ней цену — златоглавый мальчик, стискивавший мои плечи и припадавший лбом к запыленным коленям. Все остальное же — пустая, бутафорская карусель, на которой кружишься и кружишься бездумно, пока не почувствуешь острый приступ болезненной тошноты.
В такие дни я бросаю все дела, сажусь в скоростной поезд и мчусь на побережье, в крохотный белый дом, спрятанный среди вечнозеленых, толстых и равнодушных пальм. Долго стою в гостиной перед портретом, с которого щурится и смеется мой вечно юный, вечно любящий меня мальчик. Потом выхожу на террасу, молча подтаскиваю стул к ее креслу и сажусь рядом с ней.
— Здравствуй, Алена! — говорит она мне.
И сжимает мою ладонь своей всегда прохладной, гладкой, белой рукой.
И вот так мы сидим бесконечно, пока край солнца не опускается в волны. И в простирающейся до горизонта воде не вспыхивают изумрудные искры, такие же, как вспыхивали когда-то в коньячных глаза Эда.
И тогда в голове проясняется и понятно становится, что смерти нет. Что он всегда здесь, со мной, в этом воздухе, в этой вызолоченной закатным солнцем воде. Что ничего не могло сложиться иначе и вторых шансов не бывает, потому что не бывает случайностей. Что все в жизни всегда происходит правильно, на этом построен мир.
Солнце краснеет и гаснет, опускаясь в морскую воду. Над садом сгущаются теплые сумерки. Окружающий мир меркнет. И тогда из темноты южного неба, из белого призрачного блеска луны ко мне выходит он. Улыбается светло и ласково и говорит:
— Так красиво. Ночь… Луна… Ты минор, а я мажор. И мы никогда не расстанемся. Ты только не уходи без меня никуда, хорошо?
И я в тысячный раз отвечаю:
— Хорошо. Я никуда не уйду. Ты мажор, а я минор. И мы навсегда вместе.
Он смеется, юный и беспечный. Потом становится взрослее, серьезнее. Луна делает его лицо жестче, осыпает сединой виски. Таким он был бы сейчас, преданным и верным мужем, нежным и любящим отцом наших детей. И тогда мне кажется, что когда-нибудь я увижу его таким. Когда-нибудь, когда мы снова встретимся. Где-то в другой, более чистой, лучшей жизни, где все мы будем счастливы и никогда не умрем.
«Наш домик маленький» — ария из оперы «Тоска» Дж. Пуччини.