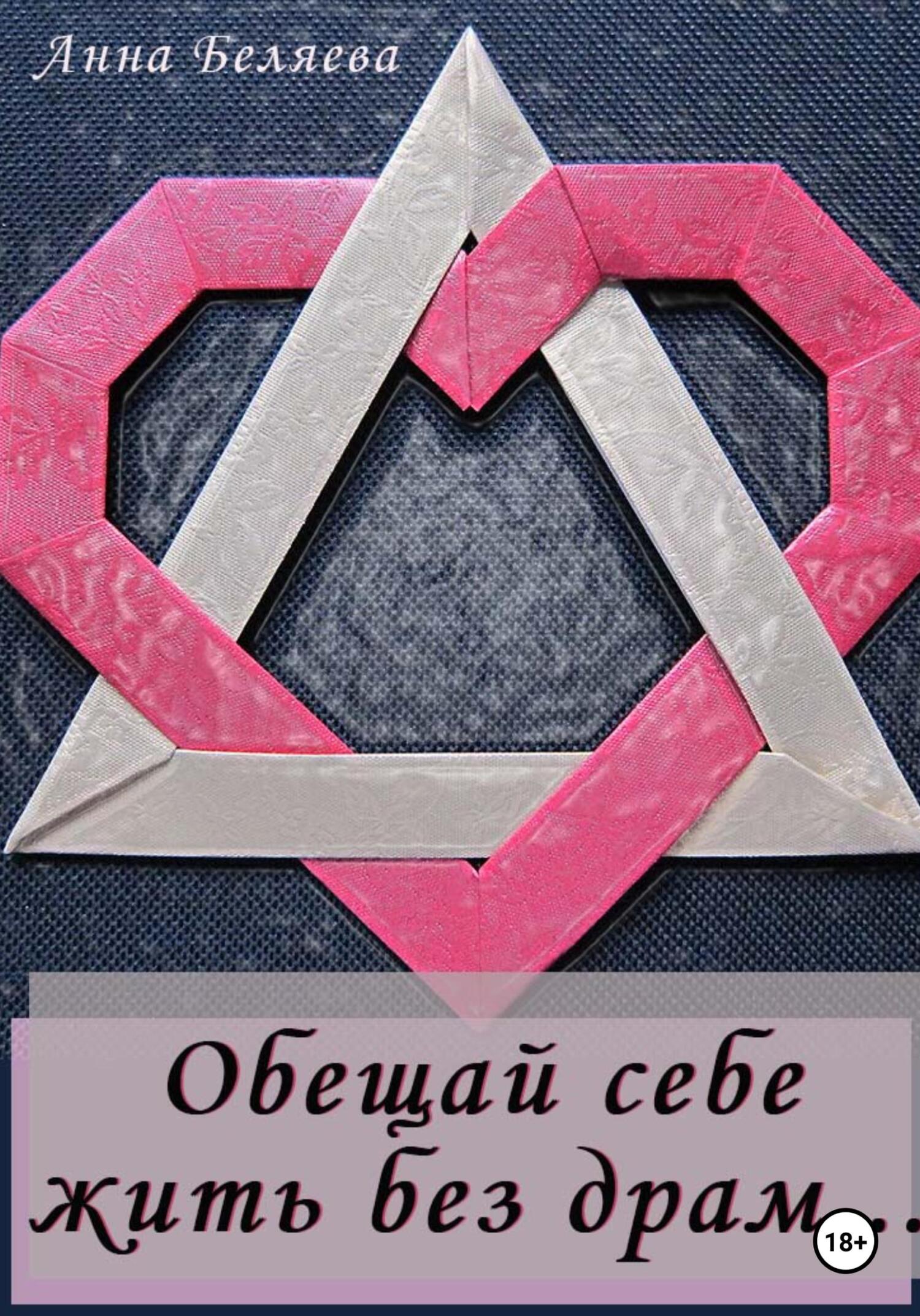Миха снова повален на пол, стонет от боли и, кажется, подустал с непривычки. Наверно, интересное это зрелище — как они возят друг друга по полу, измазываясь в кровавых соплях Михи. Верней, кажется, это Рик его возит. Не знаю — у меня все плывет перед глазами, и вижу я плохо. Соображаю тоже.
У меня трясутся губы, руки. Даже коленки — и те трясутся. Хуже того, я чувствую, что внутренне вся расклеилась, ни на что не гожусь, а ведь только что сама собиралась устраивать Михе бойцовский клуб. Полагаю, кого никогда не били, тому не понять, каково мне сейчас.
А Миха, кажется, нормально огребает от своего оппонента. Рик, сам уже слегка помятый, в кровоподтеках, но абсолютно бодрый и злой, кажется, не чувствует боли даже, когда ему дают по носу: с рутинированной легкостью «накидывает» левой. Как будто кастет у него там зажат, подмечаю, из трясучечных колыханий постепенно погружаясь в анестетическое отупение. Да Миха, сам не то, чтобы непривычный к боли, и не должен был бы так под ними корчиться — невольно, но неуправляемо.
В конце концов Рик поднимает за шкиряк расквашенного, обмякшего, покряхтывающего Миху — теперь кажется, что они одного роста — тычет им в мою сторону и рычит:
— Прощения проси, падла... отпущу...
«Материт» его на берлинском наречии и без акцента. Непривычно слышать, как Рик на нем разговаривает.
Миха о чем-то кашляет. Непонятно, извинения это передо мной или ругательства в адрес Рика, меня или нас обоих.
Затем оба исчезают с моего поля зрения. Может, стукают друг друга дальше на лестничной площадке, достукивают на улице — мне не слышно. Не слышу, спускает ли Рик с лестницы Миху и заставляет ли извиниться.
***
Глоссарик
Истсайдская галерея или Ист Сайд Гэлери — East Side Gallery, постоянная художественная галерея под открытым небом в Берлине, в районе Фридрихсхайн, представляющая собой самый большой сохранившийся участок Берлинской стены
***
Это была ГЛАВА ДВАДЦАТАЯ — Матч-пойнт. А ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ПЕРВАЯ будет называться "Ремонтные работы".
Вот вам небольшой отрывок:
За окном, будто вспомнив, снова взвывают сирены. Видно, сегодня из-за чего-то особенно остро взорвало инцидентность или они эвакуируют Миху. Или обоих... нет, это вряд ли.
— Вот ты поросенок — я так понимаю, ты завязла в ремонте и не приедешь... — пеняет мне сотка голосом Рози.
Завязла. А ведь работы тут на полчаса, думаю в окружении ремонтного бардака в спальне.
ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ПЕРВАЯ Ремонтные работы
За окном, будто вспомнив, снова взвывают сирены. Видно, сегодня из-за чего-то особенно остро взорвало инцидентность. Или они эвакуируют Миху. Или обоих... нет, это вряд ли.
— Вот ты поросенок — я так понимаю, ты завязла в ремонте и не приедешь... — пеняет мне сотка голосом Рози.
Завязла. А ведь работы тут на полчаса, думаю в окружении ремонтного бардака в спальне.
— Сахарок... ты... прости меня ради Бога... — жалобно говорю «скорым», проносящимся вдоль трамвайной линии. — Я и правда... — у меня подрагивает губа и, кажется, опять какая-то идиотская слеза ползет из уголка глаза. — Прости...
Рози сердито говорит, что не сердится, и я остаюсь наедине со «скорыми».
Не знаю, рыдать мне или смеяться над произошедшим.
Пока определяюсь, на подоконнике перед моим носом появляется чашка черного чая, крепкого, судя по цвету и запаху, а ее продолжением нарисовывается Рик.
Я не ждала его в роли утешителя. У меня возникает шальная мысль, что чай он принес себе, но он тычет в меня чашкой.
Отхлебываю и осведомляюсь:
— Забыл что-то?.. Погреться?.. А-а, ключи отдать...
Подмечаю, что у него рассечена бровь, под глазом несколько ссадин, но он успел самостоятельно сполоснуть лицо. Правильно, на меня надеяться нечего.
Пока думаю это, Рик осторожно дотрагивается до моего лица в том месте, в котором мне досталось от Михи. Его взгляд сражает меня во сто крат сильнее полученной только что пощечины: у него на лице ясно написано, что трогает он сейчас что-то до дрожи хрупкое и прозрачное и что хрупкостью этой он потрясен до глубины души.
Мне становится тяжело от его взгляда, и я поспешно отворачиваюсь.
Безучастно любуюсь отражением своей разукрашенной щеки в оконном стекле. Допиваю чай.
Полагаю, требуется разъяснить, о чем все это было.
— Ребенка хотел, — говорю больше сгущающимся за стеклом сумеркам, чем ему. — Я не хотела. С меня хватило одного раза. Не получилось тогда родить.
— Ничего, родишь еще, — говорит он просто и серьезно.
Это полный абсурд — то, что он говорит, и как он это говорит. Мне это точно не надо ни сейчас, ни вообще, но я зачем-то киваю. Наверно, не хочу, чтобы он заметил, что у меня из глаз опять хлынули слезы.
Он замечает и лезет вытирать и их, и нос, который я не дотерла и из которого у меня из-за одной несчастной пощечины тоже пошла кровь. У него и у самого снова начинает сочиться кровь, и теперь уже я вытираю его.
— Ну иди сюда... — бормочет он.
Не знаю, почему у меня не получается успокоиться. Первая пощечина, я же говорю...
Она же и последняя, решаю тут же. Всё — на курсы самообороны и быстрого реагирования. Онлайн, если будет надо. Чтоб ни-ког-да больше не испытывать такого. Ни-ког-да.
Даю ему прижать меня к груди и соображаю, что это же своего рода первый раз у нас такое — я в его объятиях полоскаю слезами и ляпаю пятна крови на его толстовку, пока его пальцы зачем-то легонечко надавливают у меня за ушами, а губы целуют мою макушку, как у маленькой.
Свойственный ему запах — сигарет и его, «риковской» туалетной воды — сейчас ощущается слабо, но кажется мне теплым и знакомым. Бросаю взгляд на подоконник с его сигаретами и между всхлипываний нервозно усмехаюсь ему в грудь.
Он, вероятно, принимает это за истерику, разворачивается вместе со мной и легонько направляет вглубь комнаты — успокаивать по-своему.
***
Позднее я буду разбирать, насколько странно устроено мое тело. Обиды и томления прошедших недель, принятые решения, произнесенные слова и выполненные действия, а также то, из-за чего мы с ним только что цапались — все это сейчас забыто и затерто.
Даю его поцелуям просочиться в самую глубь моего естества, пропитать меня насквозь, убедить меня, что ничего этого не было. Даю его рукам уложить меня на кровать, с которой он стягивает пленку, и раздеть — или сначала раздеть, а потом уложить? Даю его члену проникнуть в меня и будто бы продолжить на том месте, на котором мы остановились до нашей размолвки и его исчезновения в декабре.
У него получается все это и даже больше. Я отдаюсь ему с благодарной радостью и поразительным облегчением. Вижу его в ином свете, таком ярком, что и по мою душу хватает. Поначалу на пиках, к которым он меня подбрасывает, я не ищу слов, чтобы объяснить самой себе этот свет — размыта моя недавняя слезливость или просто у меня нет ни сил, ни желания думать. Затем, когда мы передыхаем, ко мне постепенно возвращается рассудок и облекает ощущения в мысли в нечто подобное тому, во что облек меня Рик.
Защита. Надежность. Не того ли ищем мы друг в друге? Не того ли я искала когда-то в Михе? У нас тут слово «защита» созвучно с «крышеванием». Девочек чуть ли не с малолетства учат самих стоять за себя и не зависеть от защиты парня ни морально, ни физически, а парней — рассчитывать, что девочки на них не рассчитывают. Все это я воспринимала как должное и не ждала от Михи, что он, став моим парнем, женихом и мужем, станет и моим защитником. Все потому, что по сей день и думать не могла, что однажды мне понадобится защита. От него. Но понадобилась. И Рик защитил меня.
Не знаю, почему его так долго не было рядом. Не знаю, где он шлялся, кого трахал и что еще делал. Не знаю, куда и на сколько он собирался вновь пропасть, лупанув от злости дверью. От злости и от ревности. Знаю одно: он вернулся и для возвращения из всех возможных моментов выбрал именно тот, когда мне понадобилась его защита. И он защитил меня.