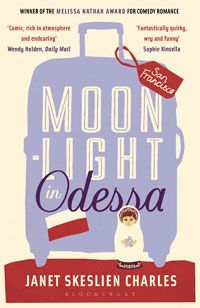— Конечно, хочется, — твердо, даже насмешливо проговорила она, будто и не плакала вовсе. — Но тебе ведь спешить ни к чему, верно?
— Ты-то пять лет собиралась.
— В этом загвоздка?
— Почему сейчас, вот что непонятно.
— Какой контактный телефон, пока ты в своих родителях?
— Тут он один, — сказал Джек и в ту же минуту понял, что ее небезупречный английский ввел его в заблуждение, он недооценил Кайю — чуткости не хватило. — Вот, пиши.
Он продиктовал номер. Она записала, на всякий случай, точно образцовый секретарь, повторяя номер вслух. Наверно, только так и можно выжить в ее непредсказуемо трудных обстоятельствах.
— Что-нибудь скоро организуем, — сказала она. — Спешить некуда. Пригласишь нас, когда захочешь.
Джек слегка опешил. Этого он не ожидал.
— Ну, видишь ли, я теперь, вообще-то, женат.
— Ты уже тогда был женат, — сказала она так тихо, что он едва расслышал.
Он смешался и не нашел, что сказать в ответ.
— Да, кстати, — продолжала она, — ты запутал его имя. По-эстонски Яак — уменьшительное от Джейкоба. Не от Джона. Я его назвала не от тебя, если ты вдруг так решил.
Отец лег спать около десяти часов, то есть за час до его звонка Кайе, и этот час Джек размышлял о том, что она сделала и зачем. Он злился, хотя понимал, что причин злиться на нее у него нет. Может быть, случилось что-то серьезное, какая-нибудь неурядица с иммиграционным ведомством или с квартирой, а то и с Яаном. Он уставился на радиотелефон, будто на дверь, ведущую туда, куда ему идти не хочется, но выбора нет, придется ее открыть. Кайя, конечно же, понимала, что ее сообщение на автоответчике может вызвать большие неприятности. Он постоянно представлял себе ту, прошлую Кайю, а теперь она, видимо, совсем другая. По крайней мере, говорит сейчас не совсем так, как прежде: исчезла легкая напевность, вместе с самой Кайей повзрослел и голос. За эти годы ей, наверно, крепко досталось. Удачное словечко — досталось. И отчасти по его вине. Вернее, главным образом по его вине.
Очень странно, что, сидя в гостиной, которая ему более чем знакома — и одновременно незнакома из-за сравнительно новых ситцевых чехлов на мебели (чехлам этим, по его расчетам, больше десяти лет!), — он не испытывает ни малейшего раскаяния; всерьез совесть его точно не грызет.
А ведь он, пожалуй, испортил ей жизнь, развеял надежды, особенно на образование, и наверняка лишил внутренней свободы; зато, возможно, подарил ни с чем не сравнимый источник радости — ребенка. Возможно. Возможно. Не нравится ему это слово. Оно прямо-таки изводит его своей неопределенностью. Хочется выяснить наверняка. Может, как раз из-за этого словца он и не испытывает раскаяния. Или же он всегда был таким, даже в далекой юности, — до случайной встречи с Милли? Когда он, почти без гроша в кармане, кое-как перебивался на жалкую стипендию, не позволяя себе ничего, кроме колбасного рулета с яйцом и самого дешевого растворимого кофе, когда ходил в дырявых башмаках и в трусах, изношенных до бахромы? Неужто он всегда умел абстрагироваться от чужих переживаний? Трудно сказать.
Если заглянуть поглубже, то ясно одно: когда, написав четыре такта, он во время исполнения убеждается, что получилось вяло или вышла вместо музыки полная хрень, изгадившая всю вещь, то испытывает куда большие угрызения совести, чем сейчас. Да, хорошего мало.
В итоге Джек, по просьбе отца, остался в Хейсе и на вторую ночь. Домой приехал только в пятницу, около трех часов. Милли опять до позднего вечера укатила в Дартингтон — на однодневный семинар по экологическому симбиозу. В субботу придется встать спозаранку, чтобы не стоять в пробках и поспеть в Гемпшир к утренней прогулке.
После разговора с Кайей он плохо спал и теперь чувствует себя скверно. Три часа, проведенные утром в больнице, прошли мимо его сознания, словно он находился там виртуально, как призрак, а не живой человек. По сравнению с внешним миром больничная жизнь течет по совсем другим законам: женщина, которую звали Айлин, ночью, видимо, умерла — кровать ее была пуста. Подушка в свежей наволочке напоминала стершееся из памяти лицо; впрочем, лица ее Джек ни разу толком и не видел — только копну волос и маску. Однако никто и словом не упомянул о столь драматическом событии. Люди ложатся в больницу и либо умирают, либо нет, и если нет, то уходят. Короче, уходят в обоих случаях. Но вся эта больничная жизнь — серая бесформенная рутина, в которой люди, плачущие в лифте или стонущие в предсмертной агонии, постепенно теряют очертания и исчезают в привычном круговороте.
Врачи, по их словам, «довольны» состоянием его матери и тем, что ночь «прошла спокойно», — хотя Мойне потребовалась кислородная маска. В этих стенах даже слова «доволен» и «спокойно» меняют свои значения. В больницу нужно являться не усталым, а полным сил, иначе больничное амбре впитается в кожу и отравит кровь. Перед обедом он объяснил родителям, что они с Милли приглашены в Уодхэмптон-Холл; ему необходимо передохнуть и побыть с женой (что отец воспринял с пониманием). Джек взял такси — идти пешком до метро не было мочи. У съезда на главную дорогу стояли пожарные машины и две кареты скорой помощи с включенными мигалками; рядом два покореженных автомобиля с уже срезанными крышами.
— Молодой доктор с ночной смены ехал, — объяснил таксист. — Чума, а не съезд. По главной же народ гонит очертя голову, особенно если на работу несется. Авария тут не первая.
— Насмерть?
— Лежит в своей же больнице, размазало в кашу. Странно представить: врач — и на больничной койке, правда? Про того, кто в него врезался, не слыхал. Вот дурдом!..
— Да уж. Полное безумие.
— Этому врачу хоть в одном повезло: рядом с больницей в аварию попал, — усмехнулся таксист и глянул на Джека: — А вы навещаете или сами лежали?
— Навещал. С матерью несчастный случай.
— Очень сочувствую, приятель. Очень сочувствую. Я свою в прошлом году схоронил. До сих пор не могу оправиться. Золотая была женщина. Несправедливо это, скажи? Хорошо хоть, мы «Урну» завоевали.
Если бы много лет назад Джек набрался решимости и оторвался от Англии, он, быть может, лучше разобрался бы в себе самом. Впрочем, один знакомый композитор пять лет назад переехал во Францию; так, по его словам, все свои бзики он привез на новое место, а там, как выяснилось, немыслимого труда стоит отыскать его любимый рахат-лукум, который выпускает компания «Фрай» (а у Джека — это любимая жвачка с винным вкусом). Очень может быть, что даже такая резкая перемена не помогла бы.
Он оглядел соседей по вагону подземки. «Эгей, ребята, а ведь я — папаша», — вертелось на языке. Они, небось, по его глазам заметили, что он особенный, не такой, как все. Но потом накатил страх: а вдруг и правда он — папочка?