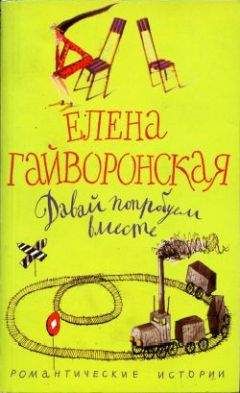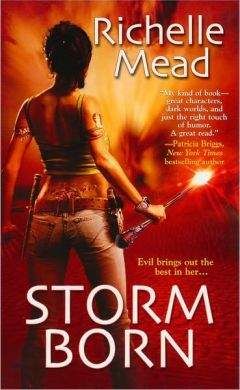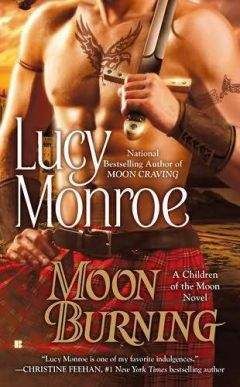Ознакомительная версия.
– Какое еще лечение?
В зеркальце я ловлю его угрюмый быстрый взгляд.
– Зачем ты хочешь казаться хуже, чем есть? Мы же свои…
– Заткнись. Тоже мне – психолог от слова «псих».
Кирилл молчит, уставясь на дорогу. Я тоже. Тишина угнетает, но не больше, чем пошлые избитые фразы.
– Не обижайся, – внезапно чуть слышно, будто про себя, произносит Кирилл. – Я просто чертовски устал. Честное слово, устал я, Славка…
Его лоб пересекает длинная, тонкая, как шрам, морщина. Он кажется глубоким стариком с потухшим взглядом и безвольно разомкнутым ртом. Таким я его прежде не видел.
– Поедем выпьем у меня что-нибудь за скорейшее выздоровление нашего Огурца.
Я колеблюсь в нерешительности. Как раз сегодня я обещал Вере и Мишке, что свожу их в «Макдоналдс», который на самом деле терпеть не могу – дурацкая забегаловка, а по вечерам кишит побирушками. Но детям нравится. Они еще не научились замечать невидимую грязь и распознавать разукрашенную фальшь…
Я обещал, а в то самое время Сашка Огурец боролся за свою жизнь в реанимации Склифа…
В зеркальце я ловлю молчаливый упрек Кирилла. Сейчас он прав. А Вера поймет. И сумеет объяснить Мишке. Мы же – семья.
– Что ж, выпить за выздоровление стоит. Только, пожалуйста, не гони…
– Есть, шеф, – чеканит Кирилл. Вместо привычной насмешки в его словах сквозит горький сарказм.
«Станция «Домодедовская», – объявил приятный женский голос из вагонного динамика.
Она вышла из метро и направилась к автобусной остановке. На желтой табличке конечным пунктом значилось кладбище. По церковным праздникам здесь выстраивались в вереницу современные экспрессы. Сегодня же ей пришлось отстоять полчаса, пока не прибыл маленький, тряский, коптящий выхлопами автобус, какие давно не ходят по городу.
В будни и там было тихо и пустынно. Две си-зоносые тетки торговали цветами и венками, собранными со свежих могил. Она прошла мимо. Она никогда не покупала этих цветов, пахнущих чужим горем. Ей хватало своего.
Она долго брела до свежих захоронений, думая о том, насколько огромен этот погост. Океан надгробий. Скоро на нем вовсе не останется места. На одной из покосившихся лавочек, возле давней, поросшей бурьяном могилы, мирно спал бомж, подложив под голову в грязной ушанке свежий венок. Погост стал прибежищем для тех, кому не хватило места в городе живых.
Она ориентировалась на две небольших сосны, с которых картаво и глухо, накликая непогоду, каркала ворона. Вообще-то на этом кладбище не разрешали сажать деревья, потому что иначе получился бы лес. Но правила все же нарушали. Иногда работники кладбища выкапывали тоненькие молодые деревца и выбрасывали на мусорную кучу, но некоторым повезло. Те уцелели и на жирной почве выросли скорее, выше и крепче, чем их лесные собратья, скорбными часовыми-указателями застыв посреди города мертвых.
Года еще не прошло, потому на могиле не было гранитного памятника. Только утлый крестик и табличка с именем и датами: 1979–2000.
Двадцать один…
За полгода ветра, дождей и снега буквы полустерлись и полиняли. Она рассыпала цветы по холмику и застыла, упершись коленями в мерзлую землю.
– Я даже не знаю, какие цветы ты любишь. Любил… – поправилась она. – Почему это должно было случиться именно с нами?
И тихо заплакала от болезненно-сосущего ощущения страшной несправедливости, с которой так и не смогла примириться.
Налетевший порыв ветра качнул сосну, и та жалобно заскрипела.
Апрель 2000 г.
В подъезде дома, где живет Кирилл, в стеклянной будке сидит поджарый охранник с въедливым взглядом, просвечивающим насквозь, подобно рентгеновскому лучу.
– Строго у вас тут, – усмехаюсь я ему.
Хмыкнув, Кирилл проходит к лифту, нажимает предпоследний – пятнадцатый.
– Высоко забрался.
– Не очень. Надо мной живет один из наших. Настоящий полковник. Большая сволочь, между прочим. Еще большая, чем я… – Он на секунду закрывает глаза, точно собирается вздремнуть. – Знаешь, где бы я с удовольствием пожил? На необитаемом острове. В тайге. Или хотя бы в загородном коттедже с глухим бетонным забором. Век бы никого не видеть. Устал я.
– Может, тебе стоит поменять работу?
– А может, мне стоит поменять жизнь? – Он меряет меня колючим взглядом.
Я начинаю бормотать оправдания, мол, я не имел в виду…
– Вот и заткнись.
Мы входим в квартиру, и я не сразу понимаю, отчего вдруг появляется смутное беспокойство и некий дискомфорт. Лишь спустя некоторое время доходит: тишина. Неестественная, абсолютная, такая густая, что хочется вспороть ее ножом… Будто остановилось время.
– Проходи, чего встал как памятник? – Его слова тонут в пучине безмолвия.
– А где шум? – кисло спрашиваю я, передернувшись от застарелой фобии.
– Снаружи остался.
– Стеклопакеты?
– Не только. – Зажав в зубах зажженную сигарету, Кирилл разливает по рюмкам коньяк. – Пробковые стены, потолок. Ремонт со звукоизоляцией. Нравится?
Я поеживаюсь.
– Здесь как… в могиле.
– Не знаю, – тихо говорит он, – я там не был. Лишние звуки меня раздражают. Ужасно… На. – Он бросает мне вскрытую пачку «Мальборо».
Я озираюсь по сторонам. Комната обставлена довольно просто, без вычурности. Ничего лишнего. Но в каждой вещи: кожаных креслах, низком овальном столике со стеклянной поверхностью, увенчанной массивной пепельницей в виде дубового листа, модных светильниках в виде канцелярских ламп, растыканных по разным углам потолка и комнаты, – ощущается определенный стиль, скромно намекающий на ее стоимость, с трудом соизмеримую с моей фельдшерской зарплатой.
Он откидывается на сцинку кресла, полузакрыв глаза, делает пару затяжек и неожиданно произносит:
– Когда в интернате жил – такой дурдом по ночам. Кто. кашляет, кто дрочит, кто мать зовет… Десять пацанов в палате. Я тогда мечтал, что когда-нибудь у меня будет своя отдельная квартира на последнем этаже. Чтобы никого не видеть и не слышать…
– Я не знал, что ты рос в интернате.
– Естественно. Я тебе не говорил.
– А твои родители? Умерли?
– Мать, может, и жива. А может, нет. Понятия не имею. Мне на это как-то начхать. Последний раз видел ее лет двадцать назад. А трезвой ни разу. Может, и жива. – Он открывает глаза, обводит стены странным, стынущим взглядом. – Такие обычно долго живут… А вот бабушка рано умерла. Или мне так казалось, оттого что маленьким был? Но я ее помню. Она пекла пироги. Такие пироги… До сих пор ощущаю их вкус. Знаешь, если бы встретил женщину, которая печет такие пироги, сразу бы женился. Честное слово. Но таких сейчас нет. Немодно… Давай выпьем, брат. За что?
Ознакомительная версия.