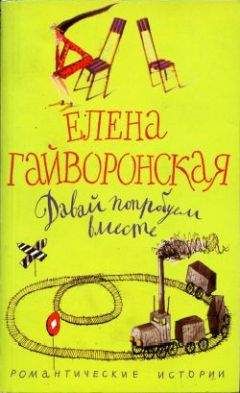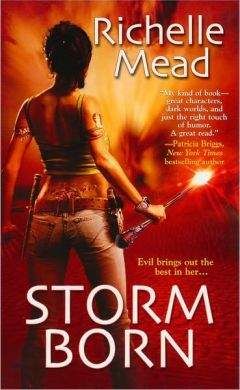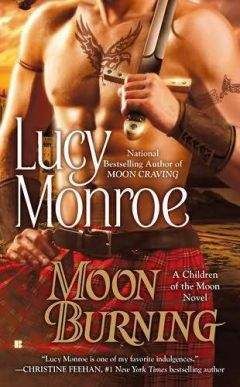Ознакомительная версия.
– Что ты наделал? – Я хочу крикнуть, но голос куда-то подевался. Остался лишь свистящий шепот. – Сию минуту закрой окно, отойди…
– Да пошел ты! – Он отталкивает меня. Я цепляюсь за него, впервые в полной мере осознав смысл выражения «не на жизнь, а на смерть». Он бьет меня прикладом в лицо, и я, потеряв равновесие, сваливаюсь вниз, увлекая за собой столик. На голову осыпается битое стекло. Я вижу, как Кирилл снова спускает курок…
Человеческий муравейник рассыпается в разные стороны. Теперь – это паника. Люди бегут, давя друг друга.
– Дерьмо! – орет Кирилл. – Вы все – тупое стадо, достойное своих пастухов! Потому и живем в таком дерьме! Ненавижу! Вы все сдохнете, сдохнете!
Я бью его пепельницей по затылку, вырываю снайперку. Он падает в кресло, продолжая выкрикивать ругательства, безумно вращая глазами, брызгая слюной. Внизу раздается истошный вой милицейских сирен. Люди показывают на наше окно.
– Что теперь делать-то? – ору я. – Куда это?!
Снайперка пляшет в моих руках.
– Глупые твари… – не обращая на меня ни малейшего внимания, продолжает проповедь Кирилл. – Вас ведут на бойню, а вы радуетесь этому, хлопаете в ладоши и распеваете гимны… Вот она, ваша свобода…
– Заткнись! – прошу я. – Помоги мне, это нужно спрятать!
В дверь звонят. Сперва коротко, затем сильнее.
Кирилл вздрагивает, замолкает, взгляд его становится более осмысленным. Он тянется к бару, достает новую бутылку и, распечатав, отхлебывает из горлышка. И я в ужасе понимаю: мой друг спятил. Окончательно и бесповоротно.
Я стаскиваю рубашку, затираю отпечатки, мечусь по всей квартире в поисках места, куда можно засунуть эту штуковину. Наконец, решаю выбросить ее в окно, выходящее на другую сторону. Лучше бы я пошел в «Макдо-налдс»! Я обожаю «Макдоналдс»! Я тяну раму, она не поддается. Ну, давай же, давай В дверь барабанят. Окно, наконец, откидывается, больно треснув по пальцам. Чертыхнувшись, я избавляюсь от проклятой снайперки… И в этот момент раздается треск автоматной очереди…
В руках Кирилла «Калашников». Он стреляет по двери. Потом подбегает к окну…
Мной внезапно овладевает ужасная слабость, эдакая апатия. Я сползаю вниз по стене, закрываю глаза, зажимаю ладонями уши, чтобы не слышать войны. Я хочу тишины-. Я мечтаю о ней впервые за жизнь после…
Они выбивают дверь. Свои, ставшие чужими. Короткая команда: «На пол!» Мне закручивают руки назад. Я – пленник. Спрашивают: «Ты один?» Я молчу. Слышу, как кто-то кричит из соседней комнаты, что второй выбросился из окна… И понимаю: если я – первый, то… Я ударяюсь лбом об пол. Раз, другой, третий… Это сон. Очередной ночной кошмар… Я хочу проснуться рядом с Верой, хочу домой, в свою крепость, в хрустальный замок на золотистом берегу… Сильные руки поднимают меня, подталкивают к выходу.
Мы выходим на улицу. Я и мои конвоиры. Нестерпимо розовый закат бьет по глазам – завтрашний день обещает быть погожим. Справа стоит «скорая». Но не сорок седьмая… Я отворачиваюсь. Не хочу смотреть, как понесут черный целлофан с тем, что осталось от моего друга… Из окон первого этажа доносится:
«Как упоительны в России вечера…»
И в этот момент я понимаю: их больше нет, моих друзей. Поколения «нет»… Я остался один. Последний… И помощи ждать неоткуда. Потому что и здесь идет война. Я знал это все время, с первой секунды моего возвращения. И гнал эту истину прочь изо всех сил, но сейчас она настигла меня самого.
Значит, надо бежать… Оттолкнувшись от конвоя, бежать изо всех сил, нырнуть в спасительный переулок, смешаться с толпой, с миллионом таких же маленьких существ, как я… Стать частичкой гигантского муравейника, крохотной букашкой, неотличимой сверху от других…
Я делаю шаг, другой, несколько шагов, презрев окрик «Стой!»… Я уже отрываюсь от земли, и в ушах свищет вольный ветер свободы, такой свежий и сильный, какового я ни разу не ощущал прежде… Он подхватывает меня, и становится легче дышать…
Я лечу над россыпью желтых цветов, к песчаному замку на влажном от пены берегу, и податливые язычки волн норовят лизнуть мои усталые ноги… Отец и мать, удивительно помолодевшие, улыбаясь, машут мне. А навстречу спешат Вера и Мишка, и озорник ветер треплет их позолоченные закатом волосы, будто лепестки подсолнуха, а беззаботный звонкий смех заставляет умолкнуть орудия и крики… Теперь-то я точно знаю: мир спасет любовь…
Он не услышал выстрела, не почувствовал боли. Просто небо склонилось над ним. Удивительно чистое, ясно-серое, как горный рассвет, как глаза любимых… И, растворяясь в прозрачной манящей необъятности, он глядел в него из последних сил, обретая наконец вожделенный покой и последнее сокровенное знание…
Война закончилась для него. Навсегда…
Декабрь 2000 г.
За окнами тряской электрички поплыли старенькие бревенчатые домики, кособокие хатки, щитовые дачки за хлипкой оградой. Дорогой пригород закончился. Дедок в облезлой ушанке, сидящий напротив, залез в холщовую сумку, вытащил пакет с вареными яйцами и смятыми бутербродами. Предложил ей. Она, поблагодарив, отказалась. Дедок принялся жевать, смачно чавкая. Прервавшись, неожиданно спросил:
– Как думаешь, дочка, когда-нибудь заживем по-человечески?
Она ответила, что не знает.
Дедок прокряхтел: «Э-хе-хе…», вытащил бутылку с коричневой жидкостью, шумно отхлебнул, вытер губы рукавом.
– Чай, – пояснил он. – А ты что подумала?
Она неожиданно сконфузилась, пробормотав, что вовсе не думала ничего такого.
– Пил я и покрепче, конечно, – с достоинством поведал дедок. – Да здоровье уж не то. Годы, они свое берут. Радуйтесь, пока молодые. Тебе сколько, тридцать?
Она кивнула. Ей было двадцать семь. Но это не имело значения.
– Девчонка совсем. Все еще впереди. Живи да радуйся.
– Да, – повторила она эхом. – Живи да радуйся…
Объявили станцию. Она поднялась, направилась к выходу, услыхав за спиной:
– Счастливо, дочка.
Дом стоял возле леса. Добротный деревенский дом, из тех, что служат не одному поколению, и ничего им не делается. Разве потемнели бревна да слегка покривились резные ставенки. За забором хрипло залаяла остроухая овчарка. Из дома вышла немолодая настороженная женщина в валенках и наброшенном на плечи пальто, приветливо улыбнувшись, поспешила навстречу.
– Фу, Лора, свои.
Сббака, покорно урча, удалилась.
– Добрый день, Верочка. Было время, и на замки-то не запирались…
– Береженого бог бережет, – сказала она, прикусив губу. Всякий раз ей было тяжело приезжать сюда. Мысленно бранить себя за невольную зависть к чужой жизни, пусть даже омраченной тяжелой болезнью.
Ознакомительная версия.