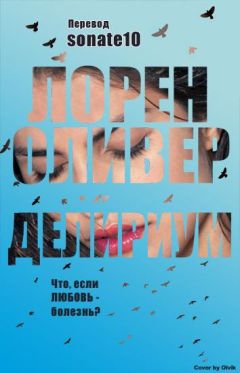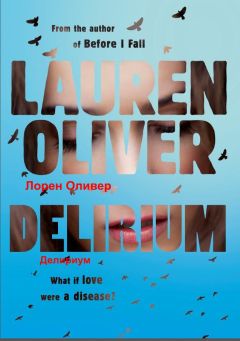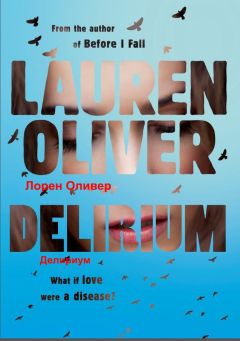— Шестнадцать дней, — поправляю я, но в голове у меня совсем другой счёт: семь дней. Семь дней — и я свободна и далека от всех этих людей, плывущих по поверхности, не видящих друг друга, скользящих мимо, мимо, мимо жизни — прямо в смерть.
— Это нормально — нервничать перед Процедурой, — говорит она.
Вот, оказывается, какую важную и трудную вещь она пытается сделать: сказать слова ободрения и поддержки. Вот то, что ей даётся с таким огромным трудом — вспомнить эти самые слова. Бедная тётя Кэрол! Дни, полные тарелок и консервных банок с квёлыми овощами, перетекают один в другой, и так бесконечно.
Внезапно я вижу, как она постарела. На лице залегли глубокие складки, в волосах седина. Только глаза, кажется, не имеют возраста: эти недвижные, словно покрытые плёнкой глаза, такие же, как у всех Исцелённых — как будто они постоянно вглядываются куда-то вдаль, в пустоту. Наверно, она была красива в молодости — до своей Процедуры: такого же роста, что и моя мама, и так же стройна. В моей голове возникает образ: две девочки-подростка над серебристой гладью океана, словно две тонкие чёрные скобки на белой бумаге — брызгают друг в дружку водой, хохочут... Вот чем нельзя поступаться.
— О, да я не нервничаю, — отвечаю я тётке. — Я жду — не дождусь.
Всего семь дней.
Что такое красота? Не более, чем обман, иллюзия, образ, создаваемый потоком возбуждённых частиц и электронов на сетчатке твоего глаза, вламывающихся в твой мозг, словно толпа распоясавшихся школьников на переменке. Ты хочешь продолжать обманываться? Ты хочешь жить в плену иллюзий?
— Эллен Дорпшир. «Обман красоты», Новая философия.
Ханна уже на месте — стоит, привалившись к сетке вокруг стадиона, голова запрокинута, глаза закрыты — подставляет лицо солнцу. Волосы распущены и свободно падают вдоль спины, почти белые в солнечных лучах. Я приостанавливаюсь шагах в пятнадцати от неё. Как бы мне хотелось запомнить её такой и запечатлеть этот образ в своём сердце навсегда.
Но тут она открывает глаза и видит меня.
— Мы ещё даже не начали забег, — звенит она, отталкивается от сетки и демонстративно смотрит на свои часы, — а ты уже приходишь второй!
— Ах так, вызов?! — подхватываю я.
— Какое там — это факт! — сияет она улыбкой. Впрочем, улыбка чуть-чуть, на секунду, меркнет, когда я подхожу поближе. — Что-то ты какая-то не такая, как всегда...
— Устала, — говорю я. — День был долгий.
Как странно — мы не обнимаемся в знак приветствия, а ведь это было для нас всегда так естественно. Как странно — почему я никогда не говорила ей, чтó она для меня значит?
— Расскажешь?
Ханна смотрит на меня, прищурившись. За лето она здорово загорела. Веснушки на носу сбежались в кучку, словно звёзды в центре галактики. Она, я уверена, самая красивая девушка в Портленде, а может, и во всём мире. И при мысли о том, что она будет жить дальше и забудет обо мне, я чувствую приступ острой боли в груди. Придёт день — и она перестанет вспоминать о времени, когда мы были вместе. А если даже и вспомнит, то оно ей покажется чужим, далёким, немного смешным и нелепым — словно сон, подробности которого начали стираться из памяти...
— Может быть, после пробежки, — говорю я.
А что ещё я могу сказать?..
Ты должен идти вперёд, это единственный путь. Ты должен во что бы то ни стало идти к намеченной цели — это всеобщий закон жизни.
— После того, как я побью тебя! — говорит она, наклоняясь вперёд, чтобы размять сухожилия.
— И кто это говорит? Та, что всё лето провалялась пузом кверху?
— И кто это говорит? — Она запрокидывает голову и подмигивает мне: — Думаю, чем бы вы там с Алексом ни занимались целыми днями напролёт, вряд ли это можно считать спортивной тренировкой!
— Ш-ш-ш!
— Да ладно, успокойся. Никого нигде — я проверяла.
Всё выглядит таким нормальным, обычным — прекрасно, чудесно обычным — что я от макушки до пят полна радости, от которой кружится голова. Улицы исчёрканы полосками света и тени, воздух наполняют запахи соли, какой-то жарящейся вкуснятины и — слабо, еле заметно — выброшенных на берег водорослей. Я хочу удержать в себе этот момент навсегда, сохранить его в глубине сердца: моя старая жизнь, моя тайна.
— Поймалась! — кричу я Ханне, шлёпая её по плечу. — Тебе водить!
И тут же срываюсь с места, а она взвизгивает и припускает следом. Мы обегаем стадион и направляемся в гавань, к причалам, без малейшего колебания и даже не обсудив маршрут. Мои ноги сильны и упруги; укус, полученный в ту страшную ночь, уже совсем зажил, оставив после себя лишь тонкую красную линию на икре, похожую на улыбку. Прохладный воздух наполняет лёгкие, которые с непривычки чуть-чуть ноют, но это хорошая боль; она напоминает, какая это великолепная штука: дышать, чувствовать страдание, чувствовать радость — всё равно, лишь бы чувствовать. Что-то солёное жжёт мне глаза, и я часто моргаю, не уверенная, что это — пот или слёзы.
Мы описываем широкий круг от старой гавани до самого Восточного Променада. Бежим не торопясь; это не самый быстрый наш бег, но, думаю, один из самых лучших. Мы храним единый ритм, держимся рядом, почти плечо в плечо, пусть и бежим медленнее, чем в начале лета.
Да, форма не ах: пробежав три мили, мы заметно сбавляем шаг, по молчаливому обоюдному согласию срезаем вниз по склону, ведущему на пляж, валимся на песок и заходимся смехом.
— Две... минуты... — Ханна хватает ртом воздух, — мне нужно... только две минуты!
— Слабачка! — хохочу я, хотя сама благодарна без меры за то, что представилась возможность отдохнуть.
Ханна захватывает горсть песку и бросает в меня. Мы обе падаем на спину, раскинув руки-ноги, как обычно это делают детишки на снегу. Песок на удивление прохладен и чуть влажен. Наверно, всё же утром шёл дождь, пока мы с Алексом бродили в Склепах. При мысли о тесной клетке, о словах, врезанных в стены, о столбе солнечного света, бьющем сквозь О в стене, в груди у меня снова что-то сжимается. Сейчас, в эту самую секунду, моя мама — где-то там: движется, дышит, живёт.
Что ж, скоро и я тоже буду «где-то там».
На пляже пустынно — всего несколько человек, по большей части семьи с детьми и один старик, медленно бредущий вдоль кромки воды, опираясь на тросточку. Солнце прячется за облаками, залив свинцово сер, только совсем чуточку отдаёт зеленью.
— Не могу поверить — всего через пару-тройку недель мы больше можем не волноваться о комендантском часе! — говорит Ханна и поворачивает ко мне голову. — Для тебя так вообще меньше трёх недель. Шестнадцать дней?