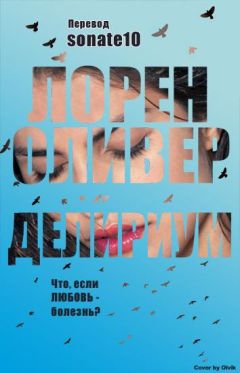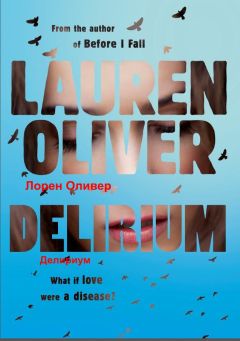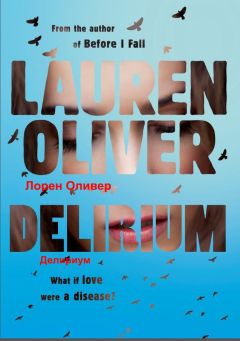Поворачиваю голову набок. Солнечные лучи пробиваются сквозь закрывающие всё окно тонкие пластиковые жалюзи, и в них танцуют пылинки.
— Который час? — Я пытаюсь сесть и взвизгиваю, когда тонкие нейлоновые шнуры впиваются мне в запястья. — Какой сегодня день?
— Ш-ш-ш. — Ханна прижимает меня обратно к подушке и держит, а я корчусь под её руками, пытаясь высвободиться. — Суббота. Три часа.
— Ты не понимаешь! — Каждое слово будто граблями раздирает мне горло. — Они поволокут меня завтра в лаборатории! Они перенесли мою Процедуру...
— Я знаю, я слышала. — Ханна смотрит на меня так пристально, будто старается передать что-то помимо слов, что-то важное. — Я пришла сразу же, как только узнала.
Даже такая короткая борьба оставляет меня совершенно без сил. Я откидываюсь на подушку. Левая рука совсем онемела — ведь она всю ночь была задрана кверху. А теперь вслед за рукой начинает неметь всё тело. Внутри уже всё застыло, как лёд. Это безнадёжно. Всё пропало. Я потеряла Алекса навсегда.
— Как ты узнала? — спрашиваю я.
— Да все об этом говорят.
Она встаёт, шарит в своей сумке, выуживает оттуда бутылку с водой, потом возвращается ко мне и опускается перед постелью на колени, так что наши глаза оказываются на одном уровне.
— Пей, — говорит она. — Тебе сразу станет лучше.
Ей приходится самой держать бутылку у моего рта, как будто я грудной ребёнок. В другое время я бы, наверно, смутилась, но сейчас мне плевать.
Пожар в глотке немного утихает. Надо признать, она права: мне действительно чуть лучше.
— Люди знают?.. Они говорят?..
Я облизываю губы и бросаю взгляд через плечо Ханны: да, тень по-прежнему там. В щели я различаю тёткин полосатый передник. Тогда я опускаю голос до шёпота: — Они знают, кто?..
Ханна отвечает нарочито громко:
— Не будь упрямой ослицей, Лина. Рано или поздно они всё равно обнаружат, кто тебя заразил. С таким же успехом можешь назвать нам имя прямо сейчас.
Ясно, этот маленький спич предназначен для тётки. Произнося его, Ханна подмигивает мне и пару секунд мотает головой. Значит, Алекс и вправду в безопасности. Может, ещё не всё потеряно?
Я говорю одним ртом, беззвучно: «Алекс». Потом дёргаю подбородком в её сторону, как бы прося подругу найти его, рассказать, что случилось. Надеюсь, она поймёт мою жестикуляцию.
В её глазах мелькает искорка, и с её губ исчезает даже тот намёк на улыбку, который там был. Похоже, сейчас она сообщит мне плохую новость.
По-прежнему громко и чётко декламируя, Ханна говорит:
— Ты не только упряма, Лина. Ты эгоистка! Если ты расскажешь им, может, тогда они поймут, что я тут вообще не при чём и ничего не знаю. Мне как-то не нравится, когда за мной сутки напролёт таскается нянька.
У меня падает сердце. Ну конечно, за Ханной хвост. Они, безусловно, подозревают, что она каким-то боком причастна к делу или хотя бы имеет какую-то информацию.
Наверное, я действительно эгоистка, потому что в этот момент даже не ощущаю вины за те неприятности, которые причинила подруге. Я ощущаю лишь горькое разочарование. Значит, она никак не сможет передать Алексу сообщение от меня — на него тогда обрушится вся полиция Портленда. А если они узнают, что он маскировался под Исцелённого и помогал Сопротивлению... М-да, они даже не станут утруждать себя судом — перейдут прямиком к расправе.
Должно быть, Ханна поняла, что я в отчаянии.
— Прости, Лина, — говорит она, на этот раз шёпотом. — Я помогла бы, если бы могла.
— Конечно, где же тебе помочь.
Но только эти слова срываются с моего языка, как я тут же раскаиваюсь в них. У Ханны ужасный вид, почти такой же ужасный, как моё самочувствие. Глаза вспухли, нос покраснел, как будто она только что плакала; и нет никаких сомнений в том, что она принеслась сюда сразу же, как только услышала: на ней кроссовки, плиссированная юбка, огромного размера майка, в которой она обычно спит — словом, она напялила на себя первое попавшееся под руку из того, что валялось на полу.
— Прости, пожалуйста, — говорю я помягче. — Ты же понимаешь, я не в себе.
— Нет, ничего.
Она встаёт и принимается ходить взад-вперёд — так она поступает всегда, когда что-то интенсивно обдумывает.
На одно кратчайшее мгновение я почти жалею о том, что встретила Алекса. Как было бы хорошо отмотать время назад, к самому началу лета, когда всё было просто и ясно. Или ещё дальше — до поздней осени прошлого года, когда мы с Ханной готовились к экзамену по математике, сидя на полу в её комнате, или совершали свои обычные пробежки вокруг Губернатора. Календарь отсчитывал дни до моей Процедуры, и они ложились позади меня ровной чередой, словно падающие рядком костяшки домино.
Губернатор. Там Алекс впервые увидел меня. Там он оставил мне записку...
И тут меня осеняет.
Стараюсь, чтобы голос звучал ровно, как ни в чём не бывало:
— А как там Аллисон Давни? Она не хотела бы попрощаться?
Ханна резко разворачивается и вперяет в меня взор. Аллисон Давни — это наш код, шифрованное обозначение Алекса: мы пользовались им, когда говорили по телефону или посылали смски. Ханна сдвигает брови.
— У меня не было возможности с нею сконтактироваться, — осторожно говорит она. На лице у неё ясно написано: «Я же тебе это уже объясняла!»
Я приподнимаю брови, будто говоря: «Доверься мне и слушай», а вслух говорю:
— Было бы приятно повидаться с нею перед завтрашней Процедурой. — Надеюсь, что тётка подслушивает и примет это как знак того, что я сдалась. — После Исцеления всё будет по-другому...
Ханна пожимает плечами и разводит руками, словно говоря: «Не пойму, чего ты хочешь. Что я должна сделать?»
Я вздыхаю и меняю тему разговора. Вернее, может показаться, что меняю.
— Ты помнишь, как мы ходили на уроки мистера Рейдера? В пятом классе. Мы тогда только тем и занимались, что посылали друг другу дурацкие записочки. Помнишь?
— Ага, — осторожно отвечает Ханна. Вид у неё по-прежнему озадаченный. Похоже, она начинает подозревать, что после удара по голове у меня с мозгами непорядок.
Я снова преувеличенно вздыхаю, словно впала в ностальгическое настроение и вспоминаю всё то хорошее, что связывало нас с Ханной.
— Помнишь — он поймал нас и рассадил в разные концы класса? Но мы были такие хитрюги — каждый раз, когда нам хотелось что-то сказать друг другу, мы просились поточить карандаш и оставляли записочки в пустом цветочном горшке у задней стенки класса? — Я принуждаю себя засмеяться. — По-моему, однажды я бегала точить карандаш раз семнадцать! И ведь он ни разу нас не поймал!
Глаза Ханны светлеют, она настораживается, как олень, прислушивающийся, не крадётся ли за ним хищник. Она отпускает смешок: