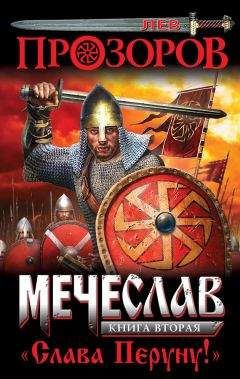Искалеченный хранитель молчал.
Молчали и воины, пришедшие с Чурыней. Гридень Коловрата, из меньших, Верешко назвищем. И сторонники… или живые, как их называли в дружине, отличая и от поднятых, и от своих – прошедших Пертов угор.
Вятич Налист.
Вятич Заруба.
Русин Горазд из Москова.
Русин Перегуда из Углича.
Братья-голядины – Ачкас с Игамасом.
И бывший гридень Роман.
Ворота старостина двора стояли распахнуты настежь. Во дворе лежали двое молодых парней – и женщины. Одно было хорошо – одежда на женщинах была нетронута. Ночные исчезновения десятков и сотен, а после – рассказы отпущенных живьём сделали свое дело – чужаки больше не отходили от орды дальше, чем на день пути, и, отходя, старались не задерживаться лишнего мига. На потеху с бабами больше времени не теряли.
Их просто убивали на месте.
Переглянулся с Верешком.
«Ну… давай, что ли…»
«С Хозяином!»
Губы – уже привычно – зашептали Навье слово. Привычно холод и онемение поползли по гортани, по небу, по языку… будто жевал крепкую мяту пополам с полынью.
Каждый раз, произнося эти слова, каждый раз, поднимая ими мёртвого, подчиняя зверя или птицу, он чувствовал, что стена, отделяющая его от живых, растет и крепнет, отращивая всё новые прясла, башни и заборола. То же самое было, когда поднимался после смертельных для живых ударов, заращивал губительные раны.
Пища, кроме поминальной, уже давно не лезла в горло, казалась прогорклой и сухой, будто комья золы. Обереги на запястьях, подоле, вороте пришлось срезать ножом – жглись, как крапива. Солнце, после первых попыток поднимать мертвецов всего лишь казавшееся слишком ярким, теперь обжигало кожу.
Зато после лютой сечи приходила тяжёлая сдобная сытость.
Зато даже в безлунную ночь видишь едва ли не лучше, чем раньше – днем.
Зато живых чужаков, затаившихся среди трупов, он просто видел, да и вообще живых в спящем холодным сном лесу стал замечать издалека…
Он сам выбрал эту дорогу. Он выбрал ее, хотя Тот, Кого теперь и ему приходилось величать Хозяином, там, на Пертовом угоре, показал ему в котле горящий Чернигов, последнюю ярость брошенных князем и владыкой людей, копоть и кровь на мёртвых лицах…
Ты можешь уйти, сказал ему Хозяин. Можешь уйти от них, спасать свой город.
Он колебался. Это было всего мгновение, но было – целое мгновение перед тем, как сказать: «Я дал им слово. Я ел их хлеб. И каждый враг, которого я убью здесь, – это тот, кто уже не придет жечь и убивать к моему дому».
Ты так решил, сказал Хозяин.
Потом был Котел. Котел, повязавший его с чужим краем и чужим городом – десятками и сотнями смертей. Десятками и сотнями непрожитых жизней.
…Ты верно выбрал, сказали ему после Котла. Уйди ты с Пертова угора – не ушёл бы дальше Оки. Лег бы, напоровшись на отбившихся от орды чужаков.
«Ты сказал, я могу уйти!» – запоздало возмутился он.
Уйти – да, оскалил медвежьи клыки одноглазый Старик, но что дойдешь – не обещал. И примолвил, убрав жуткую улыбку, – ты не стоил бы иной судьбы, если б ушел.
Он выбрал сам…
Навье слово отзвучало. Может, оттого, что, говоря его, смотрел в распахнутые ворота старостина двора, но первой зашевелилась рослая красивая женщина, лежавшая посередине… перевалилась на бок. Встала – неловко, будто не сама встала, а кто-то поднимал ее, с натугой, дергано…
– Мааамкааа!!!
Где она пряталась? Как уцелела и в резне, и в пожаре? Встрепанная, чумазая, простоволосая, в нагольном тулупчике поверх платна. Весне по шестой… коли не по пятой.
Пигалица.
Вылетела, маленьким взъерошенным вихрем пролетела по залитому кровью двору, уткнулась в колени поднятой.
– Мамка, я ж знала, знала, что ты живая… ты чего молчала? Я тебя зову, плачу, а ты молчишь! Злая мамка… мамка, а я знала, я знала…
Поднятая медленно опустила к ней лицо с ледяными глазами. Приподняла колоды рук – словно обнять потянулась. Уронила. Застыла неподвижно над уткнувшейся в ее поневу захлебывающейся в слезах девчонкой.
Сам не помнил, как соскочил с коня. На неверных ногах прошел по двору, присел на корточки.
– Эй, малая…
Оглянулась через плечо:
– Ты, дядька, кто? Ты страшный…
Чурыня приподнял левый ус в обычной своей полуулыбке:
– Я не всем страшный. Я только тем, косоглазым, что к вам наезжали, страшный…
Слова плавились и слипались от натуги. Благо Верешко, увидев девчонку, враз отпустил поднятых, те попадали, не успев подняться, и малая их не заметила. А ему теперь приходилось, выворачивая наизнанку Навье слово, держать на ногах только одну поднятую, не дозволяя встать остальным.
Хватит с пигалицы и «мамки» …
– Слышь, малая, матушке твоей нездоровится. Не докучала б ты ей. Поди лучше сюда.
Девчонка посмотрела на него – и уставилась в стылое лицо поднятой. О, неладо! Чурыня медленно кивнул девчонке мёртвой головой матери. Хотел было приказать поднятой улыбнуться, – но представил, что может из этого выйти, и не стал. А малая успокоилась. Протянула ему руки. Он принял ее осторожно, словно до краев налитый бочонок медовухи.
– Ты, дядька, сам хворый, – озаботилась малая. – Жаркий, как печка.
Разве?
– Да нет, малая. Я просто… слыхала, говорят про людей – «горячий»?
Девочка серьезно кивнула, глядя ему в лицо. Благо, что не на поднятую. Но отпускать пока нельзя. Не годится, коли малая увидит, как мать пластом валится наземь.
– Вот, я такой и есть. Горячий. Тебя звать как?
– Ранькой кликали…
– А меня Чурыней. А вон того дядьку – Верешком. Сейчас он тебя возьмет и свезет к добрым людям.
Роман уже протягивал шубу – не иначе, у мертвяка какого разжился, да и ладно – покойнику без надобности, а малой не помешает.
– Чего я-то?! – шепотом взбунтовался Верешко. – Вон жив…
Чурыня полыхнул на него глазами, и Коловратов гридень поправился на ходу:
– …Сторонникам отдай. У них лучше выйдет.
– А в том лесу ночью добрых людей, – с нажимом выговорил Чурыня, – за версту те сторонники почуют? Или ты? Вот и езжай.
И увидев, что Верешко открывает рот, рыкнул совсем уж по-волчьи, мимо воли подпустив в голос звук Навьего слова:
– Живо!
– Страшный ты, дядька, – сонным голосом осудила из шубы Ранька. – А мамка? Мамка к нам придет?
– Спи уже… – проворчал вслед развернувшему коня Верешко Чурыня. – Увидишься еще со своей мамкой…
«Там, где все будем… хотя не все. Нам-то туда теперь путь заказан. А ты с мамкой точно там будешь. Должна ж хоть у Богов справедливость быть».
Вскоре перестук копыт Верешкова скакуна стих в ночи.
Чурыня остался со сторонниками. С живыми.
Живые начали прибиваться к их войску еще в Резанской земле. Началось всё тем, что они находили на своём пути еду для себя и коней. На снегу лежали невышитые полотна, на них стояли еда и питье – в посуде без резных или писаных узоров, вокруг – коробы с зерном и сеном, и всё это было припорошено пеплом. По следам было видно, что принесшие всё это люди пришли из леса и ушли в лес – пятясь. Глуздырь, бывший Аникей, для забавы съездил до леса и увидел, что там люди всё же начали ходить лицом вперед – до места, где лежали лыжи, на которых они пришли и ушли.
– Ну и чего для такое городить? – ворчливо спросил Догада, стряхивая пепел с подмёрзшего курника.
– Не уразумел, что ли? – глухо вздохнул Сивоус. – Молодо-зелено… Как навьим в банях на страстной четверг накрывают, знаешь? На простынях, да пеплом сыплют.
– Так то навьим… – отозвался Головня, жуя.
– А мы-то, дурья башка, теперь кто?
Рык Сивоуса прокатился над холмом, где они остановились съесть трапезу. Головня застыл, недожевав, иные не донесли рук до рта.
А и то…
Кто они? Кто они после того, как их головы побывали на кольях, после того, как на кости наросла новой плотью боль и обида родной земли? Кто они, принявшие в себя непрожитое? Навьим называют того, кто ходит по земле после того, как умер. А сколько раз они умирали в котле Хозяина?
А на скатерках-то – курники, кутья, блины да кисель… поминальная страва… Накрывавший считал их мертвецами. А они сами? А они сами подъехали и стали есть без единой мысли, что странная трапеза на безлюдной лесной окраине могла быть накрыта не для них.
От таких мыслей кусок подлинно не лез в горло. Тем паче что к рассвету клонило в сон, и тело само, повинуясь неведомой силе, норовило забиться в тень. Навьи. Ночная нежить.
Через ночь вновь наткнулись на накрытый для трапезы взгорбок – как только угадывали лесные доброхоты, куда они едут? Впрочем, тут же всё и выяснилось. На сей раз их ждали люди. Трое парней-лесовиков в стёганых тулупах и меховых колпаках стояли в стороне от засыпанной пеплом трапезы. По всему было видно, что молодые – у двоих еще и ус не пробился – парни собрались на нешуточное дело – на плечах покоились охотничьи рогатины с широкими лезвиями, у поясов – топоры, а у одного даже меч. Охотничьи луки, полные колчаны стрел. И тулупы-то, коли присмотреться, не простые – тегиляи.