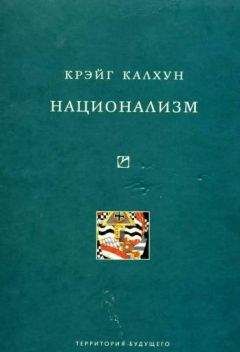Ознакомительная версия.
Итак, необходимо поставить следующие вопросы: 1) почему, для того чтобы чувствовать себя как дома, люди зачастую не ограничиваются только непосредственными личными отношениями, а обращаются к более широкой категории нации? 2) почему нации, которые на самом деле являются историческими конструкциями, начинают казаться «примордиальными»? 3) почему националистические лидеры и идеологи притязают на историю и как они используют ее при мобилизации людей во имя националистических целей?
В своей влиятельной работе Эрик Хобсбаум и Теренс Рейнджер (Hobsbawm and Ranger 1983; см. также: Хобсбаум 1998) рассмотрели множество случаев «изобретения» национальных «традиций» элитами, занимавшимися государственным строительством. Например, новые государства, возникшие после ухода колониальных держав из Африки, часто создавали мифологические описания своих доколониальных истоков, героизма антиколониальных основателей или общностей своих граждан. Неудивительно, что они преуменьшали степень того, насколько их границы и население зависели от конфликтов и компромиссов между колониальными державами. Они стремились насадить объединяющую национальную культуру посредством образовательных программ, связанных с государством средств массовой информации и создания государственных церемоний. Обычно представляемая в качестве особой национальная культура все же редко бывала прямым продолжением «примордиальной» местной культуры. Зачастую своим существованием она во многом была обязана колониальным державам (и опыту сопротивления этим колониальным державам), которые способствовали объединению членов различных племенных, этнических или региональных групп.
И, по-видимому, это не было чем-то чрезвычайным. Это особенно заметно в новых государствах, но подобные конструирование и реконструирование общих традиций присутствовали в националистических преобразованиях более старых государств Европы и Азии. Описание Камелота у Теннисона и повести Скотта о Северо-Шотландском нагорье способствовали изобретению «памятного» прошлого для Англии и Шотландии[18]. Коммунисты и республиканские националисты вместе занимались избирательным освоением и реконструкцией прошлого Китая, включая элементы его древнего прошлого и описания не слишком давней борьбы. На самом деле китайские образовательные практики отличаются прежде всего использованием поучительных повествований, будь то рассказы о «Великом походе» коммунистов или истории попроще — об обычных людях, которые пошли на жертвы ради своей бригады, своей семьи или своей нации (Bakken 1994). Такие повествования обычно несут идею о националистической преданности и других добродетелях. Конечно, когда они разоблачаются как мифы, а не факты, это ведет к снижению их ценности. Тем не менее они формируют более широкий обыденный опыт и базовую культуру большинства китайцев.
Таким образом, Хобсбаум и Рейнджер совершенно правы, говоря об изобретенном характере многих национальных традиций. Бóльшие сомнения вызывает идея о том, что раскрытие изобретения делает традиции несостоятельными[19]. Неясно, почему дело должно обстоять именно так. Хобсбаум и Рейнджер, по-видимому, полагают, что давняя, «примордиальная» традиция может так или иначе считаться легитимной (посылка националистических ученых XIX века, которые пытались найти «истинные» этнические основы нации; см.: Skurnowicz 1981 о Польше и Zacek 1969 о Чехословакии), и по контрасту с этим утверждают, что националистические традиции представляют собой недавние и, возможно, манипуляционные творения. Такой подход кажется вдвойне ошибочным. Во-первых, все традиции являются «созданными»; ни одна из них не является по-настоящему примордиальной, это признавали даже ранние функционалисты, вроде Эйзенштадта (Eisenstadt 1966, 1973) и Гирца (Гирц 2004). Все эти творения также являются потенциально спорными и подверженными постоянному видоизменению — явному или скрытому. Во-вторых, силу традиции (или культуре вообще) придает не ее древность, а ее непосредственность и данность. Некоторые представления националистов могут быть исторически сомнительными, но они все же вполне реальны в качестве аспектов жизненного опыта и основы для действия[20]. Они принимаются в качестве бессознательных посылок людьми, которые сознательно оценивают имеющиеся возможности[21]. Какие-то идеи, напротив, могут казаться неубедительными потому, что ими слишком явно манипулируют, или потому, что предлагаемый миф не связан с жизнью и практическими заботами конкретных людей. Промежуточное положение занимают истории, которые признаются частью ортодоксальной идеологии, но которые, как сознают люди, могут быть поставлены под сомнение[22]. Люди могут даже участвовать в публичных ритуалах, подтверждающих рассказы, спорность которых им известна, но при этом осуществлять идентификацию с ними как с «нашей историей», разделяя заговорщическое чувство в создании этих вымыслов и признавая их базовыми условиями повседневной жизни. Неважно, срубил ли Джордж Вашингтон вишневое деревце на самом деле и был ли Хафиз Асад действительно первым фармацевтом в Сирии.
Невозможно провести различие между государствами, показав, что одни из них созданы, а другие — нет, но можно показать, что одни национальные идентичности оказались более убедительными, чем другие, и более способными стать частью непосредственной основы для действий граждан и неоспоримым (или трудно оспоримым) средством передачи культуры. Поэтому при мобилизации людей против эфиопского правления важна была не древность эритрейского национализма, а ощущение реальности своей принадлежности к эритрейскому народу[23].
Наоборот, когда обстоятельства и практические задачи меняются, даже внешне устоявшиеся традиции оказываются подверженными разрушению и изменению. Так, индийские националисты с XIX века до Неру смогли сделать значимым (хотя и вряд ли однородным или неоспоримым) единство множества субконтинентальных идентичностей в своей борьбе против британцев. Уход британцев из Индии изменил значение национализма Индийского национального конгресса, но именно он стал программой индийского государства — одной из нескольких возможных конструкций этого государства, вопреки тем, кто сопротивлялся иностранному правлению вне официальной политики. Еще одним следствием этого было открытие риторического пространства для альтернативных национализмов и «коммунальных» и других локальных требований, которые было гораздо проще сдерживать в колониальную эпоху (Chatterjee 1994). Оппозиция между примордиальностью и «простым изобретением» оставляет открытой необычайно широкую область историчностей, в которых национальные и другие традиции могут обрести реальную силу.
Лидеры, которые мобилизуют людей на основе считающихся примордиальными связей, иногда используют националистическую риторику, а иногда пытаются закрепить определение наций прежде всего с точки зрения этнических идентичностей, что подчас ведет к губительным последствиям и геноциду. Там, где идеи национальной или этнической идентичности сливаются с расовой мыслью, примордиализм разрастается и становится особенно опасным: в качестве примера здесь можно привести не только Германию при Гитлере, но и не такие уж давние события в Бурунди и Руанде. Но геноцид не является простым следствием сочетания расовой мысли с национализмом: это более сложный результат этнического многообразия и связанных главным образом с государством политических проектов. В империях, как будет показано ниже, вообще не было геноцида. Наиболее известные случаи геноцида связаны с «модернизирующимися» государствами, опиравшимися на дискурс национализма. Сочетание расовой мысли с национализмом ведет не только к стигматизации «чужаков среди нас», но и к укреплению национальной солидарности по отношению к внутренним культурным различиям. Это одна из функций расовой мысли, которая обрела огромную силу в Китае в XX веке (Dittkower 1993). Возможно, она способствовала китайскому притеснению этнических меньшинств и осуществлению экспансионистских проектов, вроде колонизации Тибета. Но она также способствовала распространению ханьского китайского, несмотря на языковые и региональные различия как в самом Китае, так и среди диаспор и поселений во многих других государствах.
Идея нации обычно связана с утверждением о необходимости «превосходства» некой особой этнической идентичности над всеми остальными формами идентичности, в том числе общинными, семейными, классовыми, политическими и иными этническими привязанностями[24]. Такие утверждения делаются не только националистами и другими участниками этнической политики, но и — неявно — всем спектром обычных высказываний в западной исторической и социальной науке, так как наше интеллектуальное наследие было сформировано националистической идеологией и опытом национального строительства. Так, мы обычно относимся к этническим группам, расам, племенам и языкам, словно они являются объективными единицами, лишь иногда напоминая себе о двусмысленности их определений, проницаемости их границ и ситуативности их использования на практике. Суть не в том, что такие категориальные идентичности нереальны — более нереальны, чем нации; суть скорее в том, что они не фиксированы, а текучи и подвержены манипуляциям. Культурные и физические различия существуют, но их дискретность, их выделение и отношение к ним всегда различны. Более того, отношение таких культурных и физических различий к социальным группам всегда сложно и проблематично. Этническая идентичность конституируется, поддерживается и проявляется в социальных процессах, которые связаны с различными целями, конструкциями значения и конфликтами (Барт 2006). О своих притязаниях заявляют не только возможные соперничающие коллективные идентичности; также ведется соперничество за то, что означает всякая отдельная этническая или иная идентичность. Короче говоря, различные сходства и общности, называемые «этническими», вполне могут вызывать у людей предрасположенность к националистическим заявлениям и даже вызывать у других предрасположенность признавать важность таких заявлений, но трудно считать этничность «субстанцией», которая напрямую вызывает и объясняет национальность или национализм.
Ознакомительная версия.