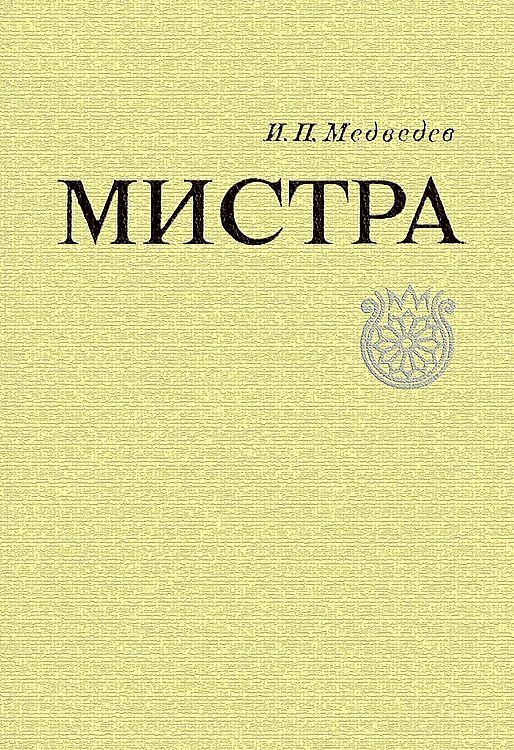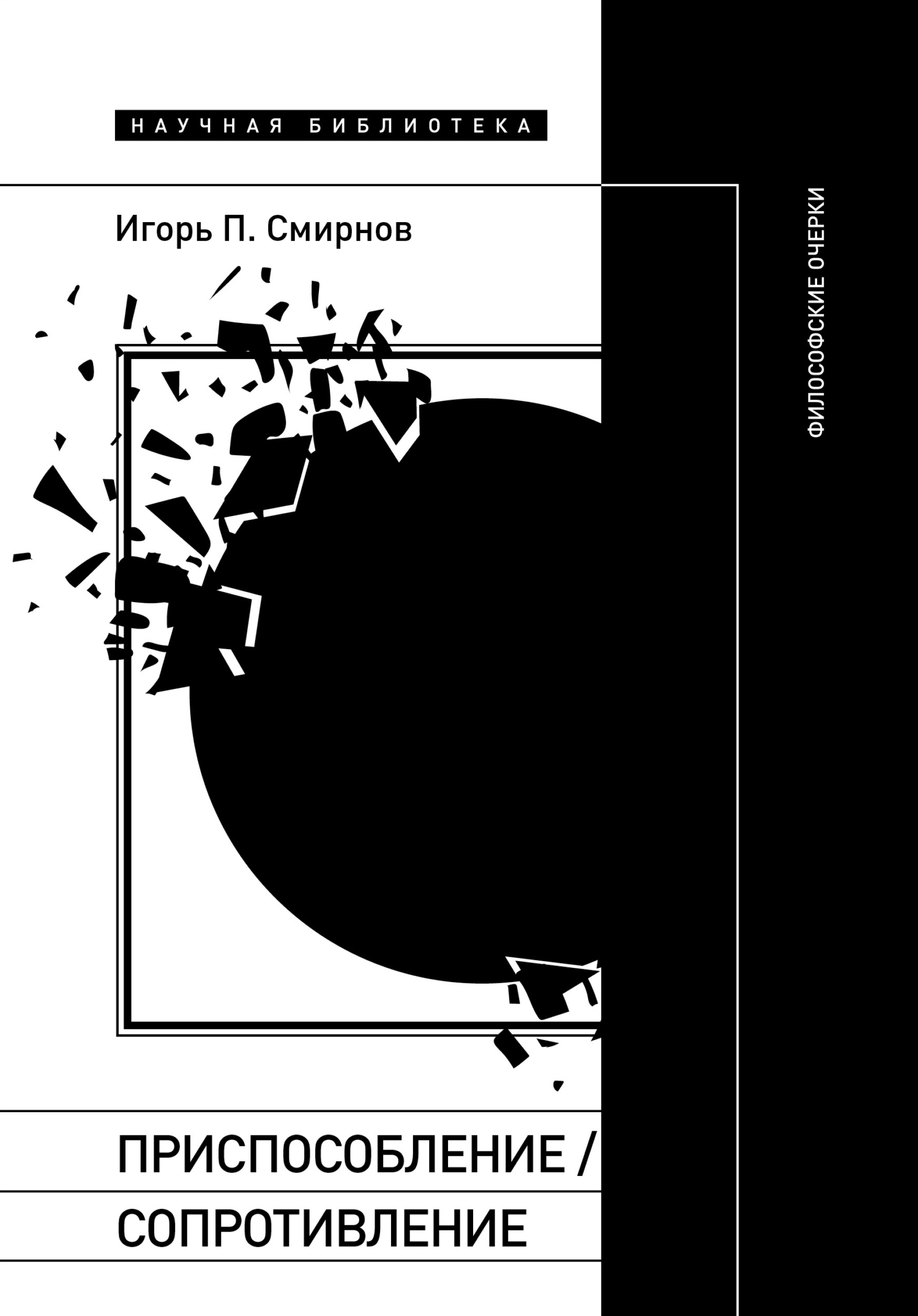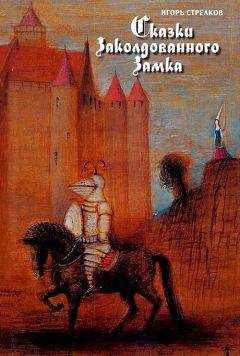случае надобности убирались, то можно сделать вывод, что каждый такой «дом» был настоящей крепостью для ее обитателей.
В социальном отношении феодальная верхушка Мистры не была однородной. Чиновничья и служилая знать, пришедшая из Византии с деспотами, с течением времени акклиматизировалась в Пелопоннесе и стала приобретать земельные владения, вступив в конфликт с местной аристократией, состоявшей из крупных земельных собственников. Как известно, в Морейской хронике (особенно в греческой версии) констатируется факт существования на Пелопоннесе до и в период завоевания его крестоносцами весьма развитой системы ироний [275]. Надо сказать, что нам это всегда казалось в высшей степени неожиданным [276]. Когда, в какое время совершился этот аграрный переворот? Право раздачи проний в Византии составляло прерогативу императорской власти (что и явилось причиной отсутствия иерархической формы собственности и ленных отношений в Византии), но нет, насколько нам известно, документов, которые бы юридически оформляли право какого-либо прониара на владение в Пелопоннесе. Да и трудно представить себе интерес императорской власти к этой отдаленной провинции, какую представлял собой Пелопоннес вплоть до XIV в. Вот почему с особым вниманием должны быть встречены работы Якоби по пересмотру данных Морейской хроники и ее терминологии для характеристики поземельных отношений на Пелопоннесе. Исследовав соотношение всех четырех версий Морейской хроники (французской, греческой, арагонской и итальянской), Якоби убедительно показал, что редакцию греческой версии отделяет по крайней мере полтора столетия от описываемых в ней событий, связанных с франкским завоеванием Морей [277]. За этот период в сфере поземельных отношений франкской и византийской Морей произошли важные изменения, выразившиеся в распространении здесь института условного феодального землевладения (держания) — пронии, аналогичного западноевропейскому фьеру [278]. Категории именно этого современного ему института использует автор греческой Морейской хроники для характеристики поземельных отношений полуторастолетней давности, создавая тем самым совершенно превратную картину [279]. Поэтому, рассматривая поземельные отношения на Пелопоннесе до и в период франкского завоевания, нужно в первую очередь опираться на источники того времени, как бы скудны они ни были. В частности, очень интересны данные, содержащиеся в известном документе Partitio Romaniae, закрепившем раздел империи между Венецией и крестоносцами в марте 1204 г. [280] Среди прочего в нем дается описание крупных земельных владений в Пелопоннесе, как государственных (mісга et megali episkepsis), [281] так и находящихся во владении
отдельных родов, в частности Вранов (pertinentia de Brana), Кантакузинов (pertinentia de Cantacuzeno), [282] дочери императора Алексея III Ангела Ирины (filie imperatoris Kyrialexii), земли монастырей и т. д. Якоби называет эти владения то «апанажами» в духе Арвейлер, то, сомневаясь в существовании проний в Греции в эпоху франкского завоевания, считает, что там «разве что были вотчинные, родовые земли» (terres patrimoniales) [283]. Думается, что говорить о существовании «апанажей» на Пелопоннесе в эту эпоху нет оснований, и поскольку мы не можем обнаружить следов аграрного переворота в этой византийской провинции, то закономерно предположить непрерывное существование здесь того крупного родового наследственного землевладения, которое засвидетельствовано уже для X в. Горянов пишет, что «ко времени Латинской империи византийские феодальные держания (на Пелопоннесе, — И. М.) уже давно переходили по наследству, κατά λόγον γονικότητος» [284]. Нам кажется, что крупное землевладение на Пелопоннесе, во-первых, не было держанием, во-вторых, оно и не переставало быть наследственным.
Как бы то ни было, к моменту перехода Морей в руки греков местная греческая феодальная знать не была связана прониарскими отношениями с центральной константинопольской властью. Следовательно, и феодальное землевладение не носило прониарского характера. Напротив, появление здесь большого числа военнослужилой и чиновничьей знати, пришедшей из Византии сначала с наместниками, а затем с деспотами, повлекло за собою широкое распространение именно прониарского землевладения, причем с качественно новыми чертами, ознаменовавшими позднее собой «высший этап и окончательный результат истории византийской πρόνοια» [285]. Уже император Михаил VIII Палеолог, доверяя Макриносу командование армией, отправлявшейся в Морею, дал ему чистые бланки грамот, скрепленных золотой печатью (χαρτία άγραφα έβούλλωσβν με το χροσόβουλλόν του), чтобы в случае необходимости он мог жаловать «пронии или привилегии» (προνοιάσματα ή ευεργεσίες), заполняя эти грамоты так, как он сочтет нужным [286]. Разумеется, такие пожалования должны были даваться при условии несения чисто военной службы, как того требовала политическая конъюнктура. Размеры жалуемых проний были, по всей вероятности, не очень значительными, так как большая часть полуострова находилась еще под властью латинян и поэтому сказывался недостаток земельного фонда. Этот характер пронии как пожалования по преимуществу (хотя, может быть, и не исключительно) при условии несения военной службы держался вплоть до 1349 г., т. е. времени, когда Мистра стала резиденцией деспотов и двора. Прониары этого периода носили в массе своей название стратиотов, как об этом свидетельствуют, правда очень скудные, данные источников. Так, хрисовулом от февраля 1320 г. император Андроник II санкционирует захват монастырем Бронтохионом земли и монастырька «вместо другой земли в Хельмосе, отнятой у этого почтенного монастыря и переданной стратиотам» [287].
Новый этап в развитии феодального землевладения в Пелопоннесе и в укреплении связей Мистры с натуральнохозяйственной периферией начинается с 1349 г., когда владельцами проний становятся не только представители военно-служилой знати, но и придворной, чиновничьей. О характере этого типа землевладения в Мистре, об эволюции византийской иронии, о характере взаимоотношений между городским хозяйством Мистры и сельскохозяйственной периферией важнейшие сведения сообщает знаменитое «досье Гемистов», серия императорских хрисовулов и деспотских аргировулов, пожалованных Георгию Гемисту Плифону и его семье. Она включает пять документов: аргировул деспота Феодора II Палеолога от 1427 г., хрисовул императора Иоанна VIII от 1428 г., новый аргировул Феодора II от 1433 г., хрисовул императора Константина XI от февраля 1449 г. и, наконец, аргировул Димитрия Палеолога от июля 1450 г. [288] Разумеется, чтобы рассматривать данные этих документов как показательные, важно выяснить статус семьи Гемистов, однако официальное звание Плифона при дворе деспота Мистры точно не засвидетельствовано. На том основании, что в надгробном панегирике Григорий Монах называет Плифона Προστάτης των νόμων и Προστάτης τοδ των Ελλήνων μεγίστου δικαστηρίου, а также учитывая аналогичное свидетельство другого панегириста Плифона, его ученика Харитонима, ставящего Плифона выше Радаманта, Солона и Ликурга, [289] исследователи полагают, что он был облечен при дворе почетной должностью высшего судьи, [290] однако из тех καθολικαι κριταί των 'Ρωμαίων, которые появились в результате судебной реформы Андроника III [291]. Это представляется весьма вероятным, если принять во внимание обычное для византийского нарративного и тем более риторического источника употребление перифрастического термина вместо технического. Как бы то ни было, знаменитый философ принадлежал к числу влиятельных лиц в окружении деспота, к кругу его οικείων (как он назывался в актах).