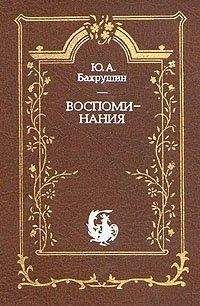Однажды в училище неожиданно приехал его шеф вел. князь Константин Николаевич и явился в класс в сопровождении всего местного начальства. Своеобразная фигура вел. князя в генерал-адмиральском мундире, с залихватски расчесанными, холеными бакенбардами и с модным квадратным моноклем в глазу сразу привлекла внимание Трутовского, который немедленно начал рисовать на него карикатуру. Увлекшись этим занятием, он и не заметил, как вел. князь покинул свое место и стал ходить между партами, остановившись за спиной Трутовского. Очнулся молодой художник лишь тогда, когда за ним раздался голос:
— А ну-ка, дай-ка мне посмотреть поближе!
Трутовский обернулся и побледнел — за его партой стоял вел. князь, протягивая руку к злополучной карикатуре, а сзади застыло бледное, расстроенное начальство, евшее злыми глазами злополучного карикатуриста. Вел. князь взял свое изображение и долго молча и внимательно его рассматривал, потом покачал головой и вдруг разразился неудержимым хохотом.
— Молодец, право, молодец! Ты же настоящий художник, для чего тебе эта артиллерия? Тебе в Академии художеств надо учиться. Хочешь?
Осмелевший Трутовский срывающимся голосом ответил, что он с малолетства мечтал быть художником и учиться в Академии, но родители решили иначе.
— Ну, обещать не обещаю, — сказал вел. князь, — а попробую тебя туда устроить. Замолвлю словечко кому надо и родителей упрошу не препятствовать твоему желанию. Но за это взятка! Карикатуру я беру себе на память. Согласен? Ну, тогда подпиши ее — художники всегда подписывают свои произведения…
Через неделю после этого К. Трутовский был уже переведен по ходатайству вел. князя в Академию художеств.
Сам Владимир Константинович окончил Лазаревский институт восточных языков, готовясь к дипломатической карьере.
— Собственно говоря, меня зовут Василием, а совсем не Владимиром, — говорил он не раз, как всегда, тем особенным тоном, в котором было трудно отличить правду от вымысла, — моя мать произвела меня на свет в компании с братом. Брата назвали Владимиром, а меня Василием — отличали нас друг от друга разноцветными ленточками. Брат недолго жил на свете, оставив меня одного. Родителям почему-то больше нравилось имя Владимира, так они вместо брата похоронили меня, так что я, собственно говоря, живой покойник.
В Лазаревском училище В. К. Трутовский сидел на одной парте с К. С. Станиславским.
Помню, как много лет спустя я привел Владимира Константиновича для какой-то консультации в студию во время постановки «Царской невесты», и как чудно и необычно показалось мне, да и многим из моих товарищей, когда Трутовский, подойдя к Станиславскому, этому для нас Зевсу-Громовержцу, сказал:
— Здравствуй, Костя, давненько мы с тобой не видались.
Старики расцеловались, сперва говорили о делах, а потом удалились к Станиславскому, и там, очевидно, состоялся вечер воспоминаний.
Отлично воспитанный, прекрасно владевший кроме русского, французского и немецкого еще и арабским, персидским и турецким языками и свободно объяснявшийся на нескольких европейских и восточных наречиях, он, кроме того, легко владел пером и был насыщен какой-то неувядаемой и искренней молодостью, которая невольно заинтересовывала и привлекала к себе. Будучи далеко не красавцем, Владимир Константинович в возрасте шестидесяти лет без труда заставлял молодых девушек им увлекаться. В Трутовском меня всегда поражали две его особенности: уменье просто и естественно себя держать и чувствовать в разговоре с людьми любого социального положения — будь то крестьянин, прислуга или кто-либо высокопоставленный, со всеми он был приветлив, находил тему для разговоров, одинаково шутил, никак не роняя при этом собственного достоинства. Второй его способностью был талант применять свои интересы к любому обществу, в котором он находился, при этом незаметно заставляя это общество подпадать под свое влияние.
Помню, как он однажды, незадолго до своей смерти, приехал ко мне на дачу вскоре после моей женитьбы. Дом, как всегда, был полнехонек веселой, беззаботной молодежью — моими товарищами и сослуживицами жены, балетными артистками. Целый день балагурили, а ночью спали вповалку на сеновале. Владимир Константинович не отставал от общего ритма нашей жизни, хотя ему было тогда около семидесяти. Прожив у нас дня три, он уехал домой, и когда вся компания осталась без него, вдруг стало пусто и неинтересно — это ощутили все. Потребовалось некоторое время, чтоб веселье вновь восстановилось. А один из моих приятелей так и остался в раздумье. Уже ложась спать, он с чисто украинской философской флегмой заметил:
— Никогда я не встречал старика, который бы никак не стеснял молодежь своим присутствием. Как он этого достигает?
Владимир Константинович был увлекающимся человеком — то он увлекался какой-либо научной темой, то собиранием экслибрисов, то своей усадьбой в Курской губернии, а то и просто какой-либо хорошенькой, веселой молодой девушкой. В такие периоды Трутовский делался забавно рассеянным, — он мог появиться в многолюдном обществе с совершенно невероятным непорядком в своем туалете. На замечание собеседницы, какое чудное сегодня небо, он вдруг глубокомысленно изрекал:
— Да! и на нем такие прекрасные легкие яблоки!
Или вдруг на предложение матери за обедом:
«Владимир Константинович, хотите еще тарелку супа?» — он рассеянно смотрел в пустую тарелку и говорил:
— Да нет, Верочка, я как будто сыт.
Бывая поднят немедленно на смех за такую в высшей степени неоправданную фамильярность, он обычно густо краснел, а затем беззаботно сам над собой смеялся. С угощением за столом с Владимиром Константиновичем постоянно творилось одно и то же. На всякое предложение повторить блюдо он неизменно отвечал:
— Да я, кажется, сыт, а впрочем… — и протягивал свою тарелку.
Это почему-то всегда бесило мою мать, и когда Владимир Константинович стал уже совсем своим человеком в нашем доме, мать, угощая его, всегда начинала с фразы: — Я знаю, что вы, кажется, сыты, но давайте-ка вашу тарелку.
Мы, молодежь, обычно на это фыркалли, а Владимир Константинович улыбался, краснел и качал головой. Шутили мы над ним постоянно, поднимали его на смех за любовь спать до двенадцати часов дня и за тяготение к сладкому. Трутовский в свой стакан клал не менее четырех кусков сахару и мог легко в пылу разговора пододвинуть к себе коробку шоколадных конфет и незаметно съесть ее всю. Из такого экстаза его обычно выводил другой свой человек в нашем доме — Владимир Васильевич Постников — стереотипной фразой:
— Владимир Константинович, позвольте-ка конфеты, а то вы за разговором нам ничего не оставите.
Опять общий смех и румянец на щеках Трутовского.
Помню, как моя мать не терпела, чтобы Владимир Константинович садился играть в карты. Он играл очень плохо и чрезвычайно рассеянно и выходил из-за стола неизменно в более или менее большом проигрыше да еще весь изруганный экспансивными партнерами за сапожничью игру.
Женат был Владимир Константинович на Александре Владимировне Мошниной, родной племяннице знаменитого святого Серафима Саровского. Дама она была очень умная и чрезвычайно образованная, но эксцентричная и психически не совсем уравновешенная. В первое десятилетие нашего знакомства с Трутов-ским она не давала ему покоя своей назойливой ревностью. По нескольку раз в вечер, когда Владимир Константинович бывал у нас, она звонила по телефону и «проверяла» его. От этого брака у Владимира Константиновича были две дочери — Надин и Наташа. Его любимой была младшая, рано и странно умершая, а старшая, отчаянная и мужеподобная, расстраивала Владимира Константиновича своими выходками и не вполне удачным замужеством.
Владимир Константинович, так же как и Павловский, всегда вел себя со мной как равный, не боясь быть не понятым своим малолетним собеседником. Но все то, что он говорил и рассказывал, было всегда так интересно и увлекательно, что то, что я не понимал умом, доходило до меня интуитивно. Он всегда живо интересовался моими текущими увлечениями, неустанно поощрял и пополнял мои юношеские «коллекции», заинтересовывал меня историей и литературой. Вспоминаю, как, когда мне было лет семь-восемь, не более, он показывал нам с матерью Оружейную палату. Он знакомил нас не только с экспонатами, но и с историей самой палаты. Указал на дорогой ларец, лежавший боком на полу с полуоткрытой крышкой.
Это ларец, в котором хранилась польская конституция, — пояснил он, — ларец был привезен сюда по распоряжению Николая I после подавления польского восстания. Проходя по палате, Николай I однажды его увидал и спросил, что это такое. Получив ответ, царь лягнул его своей ботфортой, — с тех нор он и валяется в том же положении по его повелению.