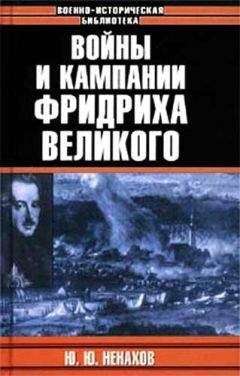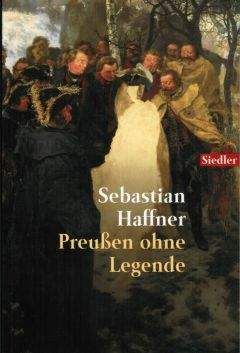— Я, лютеранский пастор, буду благословлять солдат греческой веры?
— Гетман говорит, что мы все христиане, что ваше благословение такое же, как протопопово; протопопу бы следовало благословлять солдат, но он еще не воротился из Кенигсберга.
— Да я не знаю ни слова по-русски.
— Не беда, если никто вас и не поймет. Русский уважает всякого священника, про которого знает, что он поставлен законной властью. Говорите только по правде и чувствительно, и осмелюсь вам посоветовать, упоминайте почаще имена Авраама, Исаака и Якова, так и будет хорошо.
Добрый сержант, конечно, не подозревал, что вместе с этим советом он давал мне и содержание для напутственной проповеди. И в самом деле кстати было напомнить передовым войскам о древних патриархах, которым было так трудно переселяться из одних мест в другие, неизвестные. Может быть, некоторые из слушателей и поняли меня. Я говорил, стоя у самого берега Вислы, на небольшом возвышении. Начальники, как мне показалось, были тронуты; солдаты же, по крайней мере, крестились всякий раз при имени Иисуса, Авраама и т. д. Да и сам я растрогался, оканчивая свою речь. Мне тоже предстояло идти в поход, и мрачные события грозили в будущем. Когда я кончил, гетман, с выражением чувства на лице, которого никогда не забуду, сунул мне в руку 40 рублей. Войско двинулось, и в рядах его я видел многих последний раз.
Несколько дней спустя случилось мне приобщать Св. Тайн полкового коновала, лютеранина, который в ночь после того умер. Я узнал на другой день, что умерший отказал мне крытую повозку с двумя лошадьми. Этот подарок был мне вдвойне приятен; во-первых, как доказательство, что меня любят; во-вторых, он был полезен в моем хозяйстве. Я мог уложить мои вещи на двух повозках, и обзавестись, как должно, всем нужным. К каждой повозке взял я по одному человеку прислуги и покойно ждал приказа к выступлению.
Через несколько дней армия перешла Вислу.
Прежде чем приступлю к описанию дальнейших событий, расскажу, что мне известно о русской армии, находившейся под начальством графа Фермора, и остановлюсь особенно на изображении самого главнокомандующего. О нем шла и хорошая, и дурная слава. Еще очень недавно, г. де ла Мессельер очернил его в статье своей, помещенной в прошлогодней июльской книжке Минервы, издаваемой Архенгольцом. В этой статье (на с. 94) сказано, будто Фермор действовал заодно с королем прусским, и был им даже подкуплен, что Фермор, хороший интендант армии, был однако же плохой боевой генерал. Кроме измены в этой статье приписываются ему еще другие низкие дела.
Правда, что де ла Мессельер — современник графа; но ведь и я также его современник. Де ла Мессельер наблюдал издали за действиями Фермора; судил о них по известиям, которые сообщались, может быть, людьми подкупными, я же был очевидец описываемых событий, и очевидец, которого никто не подкупал; и потому мне нечего скрывать истину; а что я имел всю возможность наблюдать, в этом, я думаю, никто не будет сомневаться. Интриги были в то время при каждом почти дворе; с помощью их придворные обыкновенно избавлялись от врагов своих. Кто знает эти интриги и знает свет и людей, тот не поверит безусловно какому-нибудь Мессельеру.
Тайны графа Фермора мне неизвестны, никогда я не писал для него ни частных писем, ни деловых бумаг. Но среди армии, наполненной его врагами, мне легко было бы услышать толки о сомнительной преданности его русскому правительству, в чем его обвиняет де ла Мессельер. Тем не менее я не слыхал ничего подобного. Не знаю также, какими доводами французская партия в Петербурге умела привлечь графа Фермора к ответственности за Цорндорфское сражение; по всем вероятиям, благодаря ее внушениям, и я был заключен в крепость. Несмотря на то, мы с графом — si licet parvis componere magna (если осмелюсь сравнивать себя с этим большим человеком) — вышли чисты из испытания, которому подверглись, по милости Франции, а де ла Мессельер пал еще прежде окончания нашего дела.
Граф Фермор, лифляндец по происхождению, отличился в 1734 году при осаде Данцига, где был флигель-адъютантом при генерал-фельдмаршале Минихе. Высших степеней достиг он своей рассудительностью и преданностью русскому престолу; при императрице Елизавете получил он главное начальство в войне против Пруссии.
Когда я узнал Фермора, ему было около 50 лет; он был среднего роста, лицо имел красивое, но несколько бледное. Всегда держал себя очень важно в обхождении с людьми знатными и со своим штабом. Зато низших умел привлекать к себе кротостью и приветливостью. Он был очень благочестив и, соблюдая в точности все постановления лютеранской веры, никогда не пропускал воскресного богослужения. Накануне всякой дневки, которая обыкновенно бывала на третьи сутки, я получал приказание назавтра говорить проповедь. Граф приобщался Св. Тайн только однажды в год, в день Вознесения Господня. Он был чрезвычайно милосерден к бедным и притесненным. Просители, хотя бы подданные неприятельского государства, никогда не уходили от графа без удовлетворения. Он безотлагательно исследовал жалобу, и строго наказывал виновного.
Вот один из многих случаев, показывающих всегдашнюю готовность графа помогать обиженному. Несколько недель после перехода армии через Вислу мы стояли под Кюстрином. Ко мне, как пастору, обращались по большей части лютеране, пострадавшие каким бы ни было образом от казаков и калмыков, рыскавших по окрестностям. Обиженные искали у меня совета, утешения и помощи. Так в одно утро явился ко мне главный арендатор бывших в той стороне дворянских имений. Гусары и казаки напали ночью на его дом, нанесли ему побои и взяли лучшие его пожитки. Он просил помочь ему в отыскании имущества. Я всегда был готов пособлять несчастным и советом, и делом; но тут страдал соотечественник, и потому я принял в нем особенное участие. Я спросил его, не может ли он распознать в лице хоть одного из грабителей. Он уверял, что может.
Тогда мы пошли к графу и были приняты. Я рассказал ему дело, а огорченный вид арендатора доказывал, что оно заслуживало внимания. Граф был разгневан этим происшествием; он тотчас велел выстроиться всему полку синих гусар, к которому, по словам арендатора, принадлежал один из виновных в грабеже; арендатору велено было пройтись по рядам и указать, кто его грабил; но он никого не мог опознать; так что граф начинал уже на него сердиться. Тогда один из офицеров объявил, что полк не весь, несколько человек отряжены в команду, и что может быть виновный окажется между ними. Тотчас послали и за теми, и когда они через несколько часов возвратились, виновные и соучастники были открыты, признались в преступлении, были наказаны кнутом и отправлены в Рогервик арестантами. «Я должен, — сказал граф, — очищать армию от людей, не умеющих во время войны быть человеколюбивыми и не дающих пощады безоружному неприятелю».
Сколько я знал графа, он всегда держался такого образа мыслей, по его распоряжению легкие команды всякий раз предшествовали армии для охранения тех деревень, через которые она должна была следовать. Эта предосторожность употреблялась особенно против казаков и калмыков, потому что регулярные войска были приучены к самому строгому повиновению, и провинившийся гусар верно был позван на грабеж казаками. Если же и случалось, что регулярные войска обижали жителей, то в этом сами жители были виноваты, раздражая солдат необдуманным сопротивлением или стреляя в них из-за заборов. Война всегда большое зло, но для русской армии то уже служит немалой похвалой, что другие государства показали себя гораздо хуже в этом отношении.
Граф Фермор всегда носил голубой кафтан с красными отворотами. Кавалер многих орденов, он даже в большие государственные праздники являлся в одной голубой ленте; зато носил ее всегда. Как все знатные люди, он привык к удобствам жизни, но, будучи главнокомандующим, не хотел служить примером изнеженности, и потому во время похода никогда не садился в карету, хотя у него было их много; но ехал верхом, какова бы ни была погода и как бы долог ни был переход. В городах и деревнях он никогда не занимал квартиры, разве останавливаясь на продолжительное время, как, например, в Мариенвердере, но всегда располагался в своей палатке, которую разбивали посреди лагеря.
При всем том нельзя сказать, чтобы жизнь его была чужда пышности, и верно в этом отношении ни одна из союзных армий не могла бы поспорить с русской. Багаж с прикрытием всегда шел впереди; графские палатки и вещи везлись на верблюдах. В известном от них расстоянии следовал сам главнокомандующий. Но каким образом? Сперва ехали две тысячи казаков и калмыков, в самом лучшем порядке, составляя стражу главнокомандующего; за ними рота кирасир, с литаврами, которые, как и остальная музыка, никогда не умолкали. За музыкой ехали два адъютанта, давая знать о близости главнокомандующего. За адъютантами — генерал-адъютант; наконец сам Фермор, в кругу генералов, а за ними бесчисленное множество слуг, под прикрытием нескольких тысяч лейб-казаков.