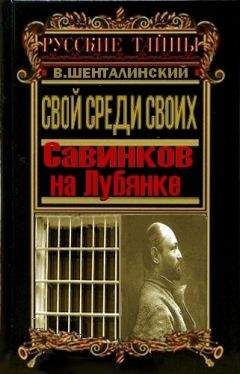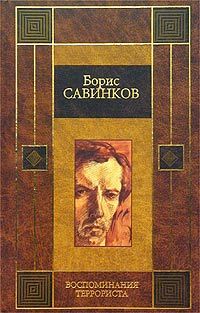Это уж впрямую относится к Савинкову и его “зеленому” воинству. Террор на террор. Одно другого стоит.
Что же до “священной жертвы”, о которой грезили Савинков и друзья его юности, то знаменитый революционный траурный марш “Вы жертвою пали в борьбе роковой” был постоянно на устах Ленина. Под эти звуки хоронил солдат своей армии глава красного террора, взявший из рук эсеров разящий меч революции, — Феликс Дзержинский.
“26 апреля.
Левочка зажег костер и прыгал через него. А потом пускал пятикопеечный фейерверк — смеялся и не хотел идти спать. Ему было 12 лет. Когда я его увижу, ему будет сколько?.. И ни костер, ни фейерверк не повторятся…
Когда Андрей Павлович покраснел, смутился и у него забегали глаза, я сказал себе: “Арестуют”. Когда он бросил Русе: “Долго же вам сидеть в эмиграции”, — то же. Когда он заговорил о Рогове, коммунисте, с симпатией, — то же. И так много раз. А Фомичева я решительно заподозрил. У самой границы, ночью, когда он шмурыгнул носом и отошел в кусты на мое слово — “предатель”, я одну минуту хотел взять его за шиворот. И не взял. Почему я поехал?.. Я шел к Бурцеву, уверенный, что меня арестуют. Он выслушал все и сказал: “Нет, нет оснований предполагать…” Я понимал, что вздор, но хотел ему верить. Как нарочно не слушал Ал. Арк. и Л. Е. Ехал инстинктом, слепо, ибо не мог оставаться, ибо замучила совесть (против народа!..), ибо Балахович, Маклаковы, Авксентьевы, Милюковы, ибо не было ни угла, ни крыши, ибо травля… ибо, ибо… Миллион причин. Замечательно, что не отговаривал никто. Все (кроме Руси) нашли, что так и должно быть — “привези нам золотое руно, или пусть тебя расстреляют”. А теперь клевещут… Так устроены люди.
Боюсь за Л. Е.
27 апреля.
Руся пишет, что 12-го скончалась Шура[36]… Бедная, маленькая женщина! Не думаешь о человеке вовсе, а когда он умирает, то становится жаль, что знал мало, не интересовался, не заглянул глубже. И уже непоправимо.
И вот еще непоправимо. На острове Пасхи нашли следы очень древней культуры — каменные памятники, идолы. Не узнали, не могли узнать, к какому веку и какому народу они относятся. Два года назад остров Пасхи исчез во время землетрясения. Весь целиком.[37]
Когда М. Ал. умирала, я не поверил, что это смерть, — думал, что обычный припадок. До 8-и я играл в шахматы с…, в 8 лег спать — был уже день давно. В 10 с половиной меня разбудила Е. И. Я вошел, М. А. была еще жива, лежала тихо, с закрытыми глазами. Я взял ее за руку, она посмотрела на меня и слабо пожала руку. Потом сказала: “Какие вы все добрые… Спасибо”. И умерла.
А потом я каждый день ходил на кладбище, в склеп, и смотрел через окошко в гробу, как медленно, медленно (она была набальзамирована) разрушалось лицо. Темными тенями. Синеватыми пятнами. Провалом около губ.
А теперь я об этом вспоминаю почти спокойно.
28 апреля.
…Кое-где на кустах распустились листья (на дворе). Сегодня была гроза и сильно пахло дождем в камере, а на прогулке — сырой землей.
В жизни бывает несколько таких ярких дней, что их невозможно забыть, — ярких в своей простоте, в том, что ничего не случилось. Вот помню. Мне года 3–4 (еще в Вильне), я иду от сквера вверх, по Большой улице, с кем-то, может быть, с мамой. У меня в руках барабан, а солнце горит в небе, и на стеклах фонарей, и в дождевых лужах. А мне очень, очень радостно и хорошо. А вот другой день: мы возвращаемся с Л. Е. из Uemblay пешком, через мост. Я покупаю ландыши у старухи. Потом сидим внизу, у берега, в cafe и смотрим на солнце. Оно на небе, и на реке, и у Л. Е. в глазах. И мне так же радостно, как тогда, ребенком, в Вильне.
Андрей Павлович — честный и стойкий солдат, Фомичев — мразь, С. Эд.[38] — зверь.
29 апреля.
…Лет пятнадцать назад, Ильфракомбе, меня поразило море. Очень высокий, скалистый берег, почти замкнутым кругом. Внизу, совсем глубоко, кипящая, бело-синяя, расплавленная масса, которая ходит ходуном и рычит. Надо всем — совершенно свинцовое небо. Свинцовое небо и в Гаммерфесте, и в Вардё, но море другое, не расплавленное, не металлическое, а водяное, и не рычит, а свистит и воет. В Индийском океане — индиго и золото наверху. Слепнут глаза. В Северном — муть, белесые волны и дождик наискосок… После Индийского океана Красное море — серого цвета, Средиземное — грязноватого. После Зунда то же Средиземное море — как Индийский океан. La relativite du choses!..[39]
Первые листья во дворе — акации!
Ландыши, которые принесла Л. Е., уже отцвели…”
Он продолжает фиксировать в дневнике скудные приметы тюремной жизни — пишет их, словно углем, точными штрихами, с редкими сценками — прогулки, визиты Любови Ефимовны — с новостями из потустороннего шумного мира. Ей ведь тоже нелегко найти себя, устроиться в советской Москве, на птичьих правах, с постоянным страхом за будущее…
Ведет изнурительный разговор с современниками — то сводит счеты с бывшими друзьями, затянувшийся спор, который становится все ненужней, то обращается к чекистам, которые тоже не поняли, обманули его, то говорит с самим собой: почему таким клином сошлась жизнь, в чем он просчитался и в чем действительно был виноват.
После “разочарования белого”, “разочарования зеленого” пережил ли он разочарование в себе? Нет, ни в двухдневной речи его на суде, ни в дневнике он ни разу не называет свои действия преступными, говорит лишь об ошибках и заблуждениях. Сознание собственной исключительности не покидает его. Но он уже утратил внутреннюю цельность, генеральную идею — куда жить. Отсюда — психологический надрыв, нарастающая депрессия.
Савинков строил свой мир не на вечных общечеловеческих ценностях — с такой внутренней крепостью и тюрьма одолима! — а на преходящей политической идее, на выжигающей душу злобе дня. Как говорил он сам, “сеял пшеницу, а вырастали чертополох и лопух”. Трагедия случилась не сейчас, на Лубянке, а гораздо раньше, когда он, еще юношей, переступил через вечную заповедь “Не убий!”. С тех пор всякий раз, убивая других, он убивал себя.
Уставая от безнадежной тяжбы со своим временем, он пускался в свободное плавание по волнам воспоминаний. И все больше и больше жил теперь памятью — и тогда на страницы черной тетради врывались яркие цветные картины прошлого, и, пережитое вновь, оно теперь виделось иначе. Вереницей шли странствия, где на фоне экзотических пейзажей непременно возникала она — та, которую он на людях так и не назвал по имени, лишь отстраненно-почтительно — Любовь Ефимовна, и даже в дневнике — Л. Е. Очень приблизилось детство — его собственное и его детей. Поднялась из гроба и встала совсем рядом мать, ближе, чем была в жизни. Открылась острая потребность в природе — вообще во всем простом, изначальном и так доступном обычно, что мы не замечаем, не ценим.
Читая дневник, видишь, как постепенно меняется сознание его автора, будто готовясь исподволь к какому-то важному, решающему событию. Нарастают предчувствия. Жизнь наполняется символами. Все кажется неслучайным. “Сердца трех” — книга в руках Любови Ефимовны, а вот теперь, 30 апреля: “Во дворе за ночь выросло три лютика, все три рядом…” Этот непрерывный звон московских колоколов, окатывающий Лубянку, словно в ответ на замурованные там выстрелы. И все неотступней, все чаще — мысли о смерти, как конский топот издалека…
“30 апреля.
…Гонкуры, конечно, сытые буржуа, но необычайна и почти единственна в своем роде их братская любовь. Необычайны по силе и записи Эдмона о болезни и смерти Жюля…
— Все неповторяемо в жизни. Все бывает только один раз.
— Рисунок губ, линия жеста, блеск взгляда притягивают мужчину к женщине, как планету к планете. Эта тайна не будет разгадана никогда.
— Судьба крупных людей такова, что наступает день, когда нет выхода. Тогда они бросаются в море.
— Жизнь такое горе, такой труд, такая забота, что, умирая, спросишь себя: “Жил ли я?”
Со всем этим я тоже согласен.
1 мая.
Целый день за окном музыка — демонстрации.
У меня болят глаза, голова всегда тяжелая, в ушах всегда звенит. Нет воздуха и движения. С трудом заставляю себя писать. Попишешь час — и как неживой.
Я не то что поверил Павловскому. Я не верил, что его могут не расстрелять, что ему могут оставить жизнь. Вот в это я не верил. И в том, что его не расстреляли, — гениальность ГПУ.
В сущности, Павловский мне внушал мало доверия. Помню обед с ним в начале 1923, с глазу на глаз, в маленьком кабаке на rue de Martyrs. У меня было как бы предчувствие будущего. Я спросил его: “А могут ли быть такие обстоятельства, при которых Вы предадите лично меня?” Он опустил глаза и ответил: “Поживем — увидим”. Я тогда же рассказал об этом Л. Е… Но я не мог думать, что ему дадут возможность меня предать… Чекисты поступили правильно и, повторяю, по-своему гениально. Их можно за это только уважать. Но Павловский?.. Ведь я с ним делился, как с братом, делился не богатством, а нищетой. Ведь он плакал у меня в кабинете… Вероятно, страх смерти… Очень жестокие люди иногда бывают трусливы. Но ведь не трусил же он сотни раз! Но если не страх смерти, то что?.. Он говорил Гендину, что я “не поеду”, что я “такой же эмигрантский генерал, как другие”. Но ведь он же знал, что это неправда. Он-то знал, что я не “генерал” и “поеду”. Зачем же он еще лгал? Чтобы, предав, утешить себя? Это еще большее малодушие.