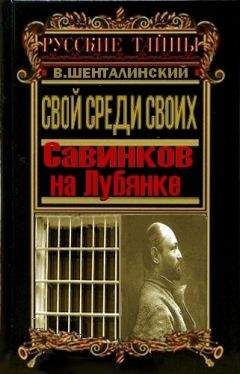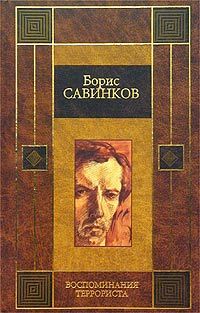Я не знаю, какой в этом смысл. Я не знаю, кому от этого может быть польза.
Я помню наш разговор в августе месяце. Вы были правы: недостаточно разочароваться в белых или зеленых, надо еще понять и оценить красных. С тех пор прошло немало времени. Я многое передумал в тюрьме и — мне не стыдно сказать — многому научился. Я обращаюсь к Вам, гражданин Дзержинский. Если Вы верите мне, освободите меня и дайте работу, все равно какую, пусть самую подчиненную. Может быть, и я пригожусь: ведь когда-то и я был подпольщиком и боролся за революцию… Если же Вы мне не верите, то скажите мне это, прошу Вас, ясно и прямо, чтобы я в точности знал свое положение.
С искренним приветом
Б. Савинков”.
В черновиках письма есть и такие выражения: “Я стал более красным, чем это кажется Вам” и “А работать у Вас я буду считать за честь”, — но их в окончательном варианте Савинков опустил, видимо боясь, что они прозвучат слишком уж льстиво.
Дзержинский разговаривать с Савинковым не стал. Только передал через тюремщиков, что приговор вряд ли будет пересмотрен…
О том, что произошло дальше, мы узнаем со слов Сперанского, который был рядом с Савинковым весь этот день. Кое-что много лет спустя рассказала писателю Ардаматскому и Любовь Ефимовна…
Утром она навестила Бориса Викторовича, весело обсуждала с ним фасон нового платья и очередной шляпки. А после того как она ушла, чекисты, видимо чтобы подсластить горькую пилюлю, решили выполнить давнюю просьбу Савинкова — свозить его за город, подышать весной. В сопровождении тройки опекунов — Пузицкого, Сперанского и Сыроежкина — он отправился на легковой машине на прогулку в Царицыно.
Там, на одной из многочисленных конспиративных дач ОГПУ, Савинков якобы выпил коньяку и пошел размяться в парк. Переходя через высокий горбатый мостик, прыгнувший над бурлящим ручьем, он вдруг схватил за руку шедшего рядом Сперанского:
— Уведите меня отсюда! Скорей!..
Потом, очень смущенный, он объяснил удивленным чекистам, что у него “боязнь пространства” и что на высоте у него всегда кружится голова и подкашиваются ноги.
Такой болезнью Савинков действительно страдал, это подтверждают его родственники: Борис Викторович не боялся ничего, кроме пустоты. Высота вызывала у него головокружение.
Поздним вечером чекисты привезли Савинкова “домой”. Они прошли в кабинет Пилляра на пятом этаже и там ждали конвоя, который бы увел заключенного в камеру.
Пузицкий звонил по телефону, Сперанский и Сыроежкин сидели — один на диване, другой в кресле, — а Савинков расхаживал по комнате. Собиралась гроза, было душно, и окно комнаты, выходящее во двор, держали распахнутым. Видимо, когда-то это была балконная дверь — подоконник отходил от пола сантиметров на двадцать.
Дальнейшее произошло мгновенно. Савинков, подойдя к окну, посмотрел вниз и вдруг, покачнувшись и словно переломившись пополам, исчез… Никто из чекистов даже не успел шелохнуться.
“Я приехал на Лубянку через час после случившегося, — рассказывал помощник прокурора республики Р. В. Катанян. — Несколько работников ОГПУ во главе с Дзержинским писали сообщение о смерти Савинкова для газет. Феликс Эдмундович подошел ко мне. Он сказал: „Савинков остался верен себе — прожил мутную, скандальную жизнь и так же мутно и скандально ее окончил””.
На следующий день Дзержинский докладывал о происшествии на Политбюро ЦК партии. И, должно быть, повторил те же самые слова. А сообщение, которое он сочинил, было опубликовано только через неделю.
— Это неправда! Этого не может быть! Вы убили его! — закричала на французском Любовь Ефимовна, когда ее пригласили на Лубянку и объявили о смерти Савинкова.
Убили! Так подумали многие. Имя Савинкова снова облетело мир, на этот раз как имя героя-мученика, ценой жизни искупившего грехи.
Но были и другие голоса. Эмигрантский фельетонист Яблоновский написал в берлинской газете “Руль”: “…драма Савинкова рисуется мне в самом простом, даже простеньком виде. Обещали свободу. Несомненно обещали. Надули. Нагло, жульнически надули. Человек не стерпел и выбросился в окно”.
В самоубийстве Савинкова вряд ли можно сомневаться. Убить его чекистам, конечно, ничего не стоило. Но для этого они бы наверняка использовали другие, более ловкие и тихие приемы. Только вот зачем им было его убивать? Опасности он уже не представлял. И живым — спеленутый лубянскими стенами — был гораздо нужнее. Мог еще не раз послужить — как свидетель, как эксперт. Помочь в какой-нибудь очередной операции. Наконец, написать несколько новых пропагандистских книг!
А вот сенсационный самоубийца был совсем не нужен. Как же так — только обрел в объятьях советской власти долгожданную правду и вдруг — головой вниз… Самоубийство зачеркивало весь пафос его покаяния, по существу, сводило на нет блистательный результат суда. Чекистам от него было нужно не мертвое тело, а пленный дух.
В следственном деле Савинкова есть маленький листочек бумаги:
Удостоверение
Сим удостоверяю, что смерть гр. Б. Савинкова последовала 7 мая 1925 г. вследствие тяжелых травматических повреждений головы (полное раздробление затылочной кости, части теменных и височных) с нарушением целости важнейших центров головного мозга в результате падения с большой высоты.
Врач тюремный ОГПУ… (Подпись неразборчива.)
Вот и эта, последняя, роль его кончилась. Лишь за день до смерти признался он себе, что жил неправедно. И тут же перестал играть и сошел, вернее, выбросился со сцены. Выбросился в никуда. Одного мгновения истины было достаточно, чтобы жизнь стала невыносимой.
Где и как похоронен Савинков — неизвестно. На могилу он не имел права.
Черчилль говорил: “Мало кто больше Савинкова страдал за русский народ…”
Возможно, это и будет правдой, если добавить: и мало из-за кого пострадало столько русского народа!
Жизнь Бориса Савинкова — политика и борца — оборвалась 7 мая 1925 года прыжком из окна лубянской тюрьмы. Писатель В. Ропшин пережил своего двойника и вернулся к нам сегодня, спустя семьдесят лет, после долгих запретов и заточения в спецхранах библиотек, своими книгами, которые переизданы массовыми тиражами и нашли наконец своего самого широкого читателя.
Трагедия Савинкова — только частичка большой народной трагедии. Достаточно взглянуть на тот кровавый след, который оставили по себе другие участники событий.
Александру Аркадьевичу Деренталю тоже не нашлось места в родной стране, как он ни старался приспособиться к новой жизни. После выхода из тюрьмы служил в Обществе культурных связей с заграницей, писал пьесы для клубной сцены, переводил тексты оперетт. Но в 1937 году был арестован, отправлен на Колыму и там через два года расстрелян.
Дзержинский и Менжинский не надолго пережили Савинкова — чекистская работа изнашивает быстро. Здоровье Железного Феликса не выдержало в 1926 году, в 1934 году умер страдающий какой-то загадочной болезнью Менжинский. Впоследствии в его умерщвлении обвинят Ягоду.
Чекисты — участники операции “Синдикат-2” стали жертвами их же собственной организации, доблестных органов. После орденов Родина наградила их смертными приговорами.
Главное действующее лицо операции — Андрей Павлович Федоров — руководил Иностранным отделом Ленинградского управления НКВД, когда его арестовали. Он был расстрелян как шпион и враг народа 20 сентября 1937 года. Начальник Минского ГПУ Филипп Медведь возглавлял позднее Ленинградское управление НКВД, но после убийства Кирова оказался на Колыме, где и был расстрелян.
19 июня 1937 года был приговорен к расстрелу как участник антисоветского заговора Сергей Васильевич Пузицкий. 11 июля — Пилляр фон Пилау. Когда-то в бою с белополяками он, чтобы не попасть в плен, последнюю пулю пустил в себя. Враги приняли его, истекающего кровью, за убитого. Но когда местные жители решили закопать трупы, то обнаружили, что он еще жив… Теперь, на следствии, его обвинили в том, что он сдался врагам и не сумел покончить жизнь самоубийством.
Три месяца выбивали показания из Игнатия Сосновского. А он подробно рассказывал о тех прославивших Лубянку операциях, в которых участвовал… Потом не выдержал пыток и “признался” во всем, что от него требовали. 15 ноября 1937 года его расстреляли.
В этом же году пришли за Артузовым — многолетним начальником Контрразведывательного и Иностранного отделов ОГПУ, а теперь шпионом сразу немецкой, французской, польской и английской разведок… Тем Артузовым, который, воспитывая молодых чекистов, находил слова, западавшие в душу: “Наш фронт незрим, прикрыт секретностью, дымкой таинственности. Но и на этом, скрытом от сотен глаз, фронте бывают свои “звездные” минуты… Это можно назвать “тихим героизмом”…”
Перед казнью Артузов написал кровью на клочке бумаги послание, в котором отверг предъявленные ему обвинения и доказывал, что он не шпион…