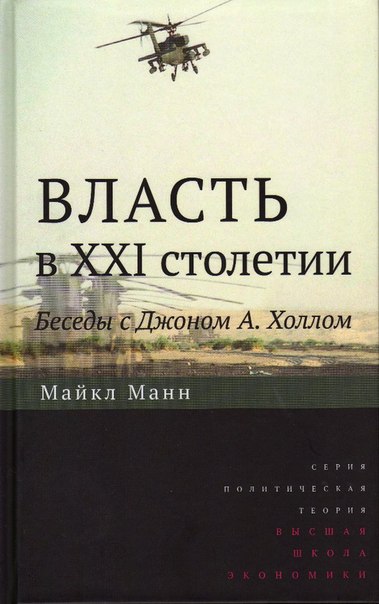пограничной зоне. Так, в многоэтничной Чехословакии Судетская немецкая партия, опираясь на этнических немцев, получила 15 % парламентских мест на выборах 1935 г.; 10 % словацких избирателей отдали голоса Глинковой партии. В многоязычной Бельгии «Кристус Рекс» завоевал 11,5 % голосов в 1936 г. (в основном среди франкоязычных), а Фламандский национальный союз (VNV) — 7,1 %. Но в 1939 г., когда лидеры «Кристус Рекс» открыто объявили себя фашистами, поддержка избирателей упала до 4,4 %, та же судьба постигла VNV, когда их поддержали финансами немецкие нацисты. Финское движение Лапуа (IKL) воспользовалось плодами победы правых в гражданской войне и антисоветским ирредентизмом, в результате чего эти финские радикалы получили 8,3 % голосов в 1936 г., но в 1939-м этот результат упал до 6,6 %. В религиозно разделенной Голландии NCB выиграла 7,9 % голосов в 1935 г., но потеряла всякую популярность в 1939-м, когда сблизилась с Гитлером. В отличие от юга и востока Европы, эти авторитарные движения никогда не пользовались массовой поддержкой, но все же обладали некоторым влиянием.
Однако чем дальше на северо-запад, тем меньше голосов получали авторитаристы. Фашистов и их попутчиков ждал полный провал в Норвегии, где они набрали 2 %, в Швейцарии — 1,5 %, и оглушительное поражение в Британии, Ирландии, Исландии, Швеции, Дании, США, Канаде, Австралии и Новой Зеландии, где они никогда не набирали более 1 % голосов (Lindstrom, 1985: 115; Linz, 1976: 89–91; Payne, 1980: 126–135; 1995: 290–312). Хотя некоторые интеллектуалы и элиты (я упоминал о них в главе 1) заигрывали с фашистскими идеями, хотя не смолкало недовольное брюзжание по поводу «слабостей» и противоречий парламентской демократии, тем не менее пусть местные консерваторы и не брезговали популизмом, оставались на твердых демократических позициях: они довольствовались тем, чтобы мобилизовать массы на позициях умеренного национализма, религиозности, почтения к традициям и притязаний на более умелое управление капиталистической экономикой (Mann, 1993). Консерваторы сопротивлялись авторитарным правым, социал-демократы — революционерам. И те и другие уживались вместе, разрешая конфликты демократическим путем, что в конечном счете укрепляло демократию.
Однако в центре, на юге и на востоке континента авторитаристы процветали. На свободных выборах в Австрии, Германии и Испании они набирали почти 40 % голосов. На полусвободных выборах в Восточной Европе — одерживали убедительные победы. Будь фашисты там лучше организованны, они набирали бы еще больше голосов (что и происходило в Венгрии и Румынии, как мы увидим в главах 7 и 8). Эти победы авторитаристов невозможно объяснить привлечением административного ресурса или каким-то принуждением на выборах. Здесь, в отличие от стран северо-запада, у них действительно была мощная народная поддержка. В самом деле, существовали две Европы: одна — твердая либерально-демократическая, вторая — с выраженными симпатиями к органически-авторитарному взгляду на национальное государство, и неустойчивая «пограничная зона» между ними.
Мощность этих географических блоков заставляет меня усомниться в трех наиболее распространенных объяснениях авторитаризма и фашизма. Первое из них считает каждую страну уникальной, и предлагаемое им объяснение оказывается в конечном счете «националистическим». Мощь национального государства обращает внимание многих ученых вовнутрь, на одну лишь страну — чаще всего, их собственную. Они начинают ссылаться на «национальные особенности», например, на Sonderweg, некий «особый путь» немцев к нацизму. Испанские историки обожают толковать о славных временах Siglo de Oro («золотого века»), за которыми последовал упадок империи: загнивание церкви, засилье армейского влияния, регионализм, мятежи на юге и так далее. Если бы я читал по-албански, то, несомненно, и у албанских авторов нашел бы что-нибудь об уникальной предрасположенности албанцев к тоталитаризму. Верно, местный колорит объясняет детали развития каждой страны. Нацизм имеет характерно немецкие черты, франкизм — характерно испанские. Ни в какой иной стране их вообразить невозможно. Однако на карте 2.1 мы видим отчетливые макрорегиональные закономерности поверх национальных границ. Это означает, что Испания могла стать авторитарной, Албания, скорее всего, тоже, а вот Ирландия нет. В Ирландии существовала мощная и реакционная католическая церковь, в 1920-е гг. в стране шла настоящая гражданская война. Однако Ирландия находится на северо-западе; в ней действовали британские демократические институты, она говорила на одном языке с демократическими Великобританией и США и обменивалась с ними населением. В отличие от албанцев, ирландцы обитали в центре демократической цивилизации. Вот почему враждующие армии эпохи гражданской войны в Ирландии затем превратились во враждующие политические партии — и эти две партии главенствуют в ирландской политике и по сей день. Конечно, нам нужны детали — и в соответствующих главах они появятся в изобилии; но нужен и более широкий макроанализ.
Второй подход также скрыто националистичен. Он делит Европу на национальные государства и рассматривает каждое как отдельный случай в многовариантном сравнительном анализе. К примеру, берется статистика по странам, и с ее помощью доказывается, что фашизм развивался в отсталых странах или в странах, где быстро распространялось университетское образование. Такой статистикой я не премину воспользоваться позже. Однако сам метод упрямо опровергает география, с которой мы уже познакомились. Неужто все отсталые страны или все страны с множеством университетов на карте слеплены в единый ком? Очень вряд ли. Скорее география сблизила эти страны, помогла им наладить коммуникационные потоки, так что определенные идеологии легче распространялись в определенных географических регионах, независимо от их уровня развития или количества студентов.
Третий подход, по сути региональный, рассматривает как каузально значимые макрорегиональные культуры: «средиземноморскую», «восточно-европейскую», «центрально-европейскую» и так далее.
Например, этот подход верно отмечает, что органический национализм, основанный на расистском антисемитизме, был свойствен лишь Центральной и Восточной Европе, а на Южную практически не распространялся. Однако авторитаризм в целом имел куда более широкое распространение. Он подчинил себе половину Европы. Он не был «особым случаем Центральной Европы», как заявляет Ньюмен (Newman, 1970: 29–34), или «запоздалым развитием Восточной Европы», о чем пишут Янош (Janos, 1989) и Беренд (Berend, 1998: 201, 343–345), или даже «тупиковым развитием региона», о чем нам сообщает Грегор (Gregor, 1969: xi-xiv) [12]. Все эти макрорегиональные теории в чем-то справедливы, однако фашизм представляет собой сразу и более широкое, и более локальное явление, чем видится теоретикам-регионалам. Обратим внимание, что пять основных фашистских режимов (в Германии, Австрии, Венгрии, Румынии и Италии) были разбросаны по всему континенту и не зависели от уровня развития этих стран. Нам необходимо найти более универсальное объяснение авторитаризма и, возможно, более частное — фашизма. Сначала я рассмотрю первую переменную: типы режима.
Основная проблема лежит здесь в области политической «правизны». Во всей «Большой Европе» левым авторитарным государством был лишь Советский Союз. Все прочие авторитарные режимы воспринимались как политически правые — хотя, как мы увидим далее, для фашизма понятие «правизны» весьма двусмысленно. У этих режимов были определенные общие черты. Все они