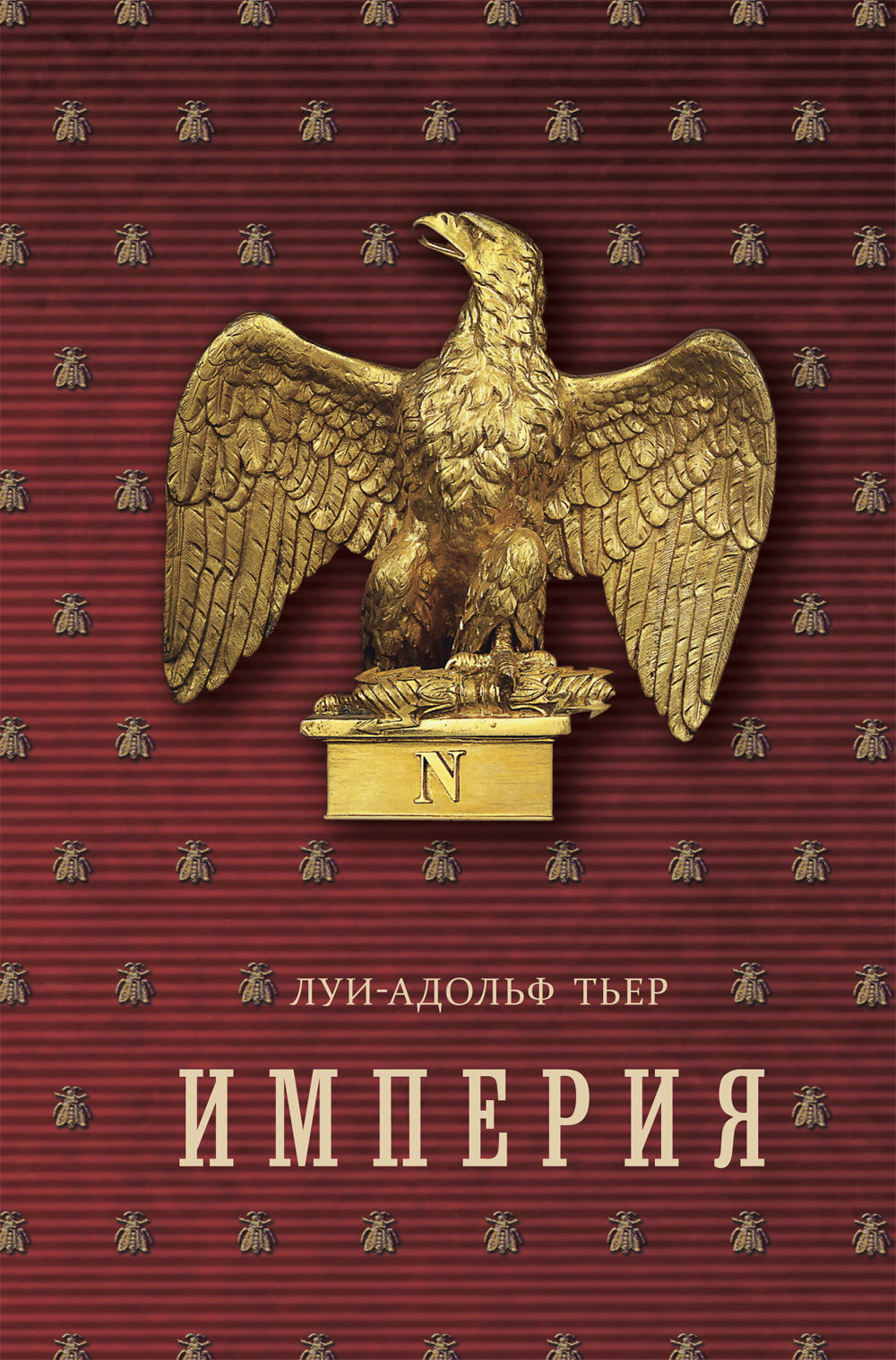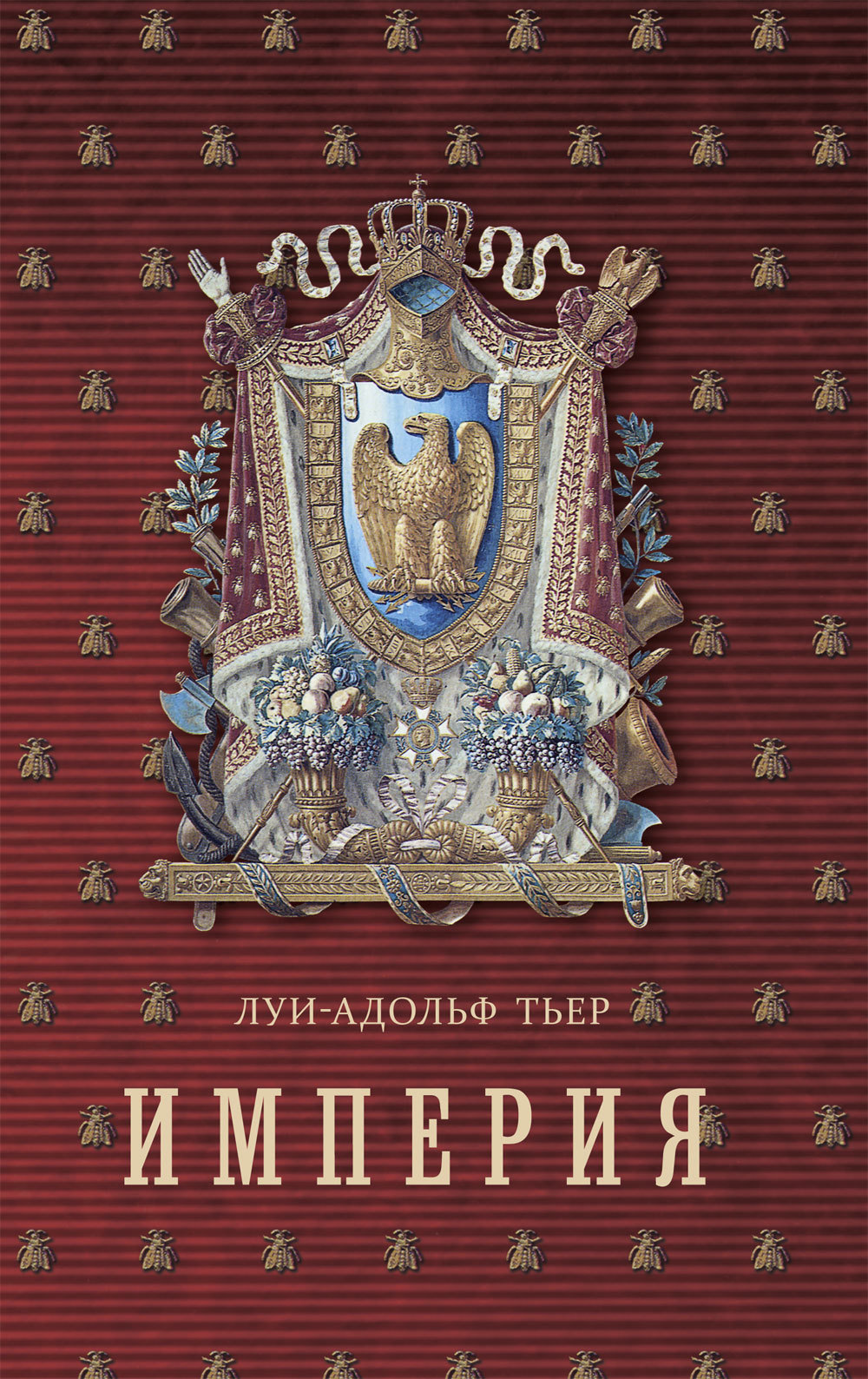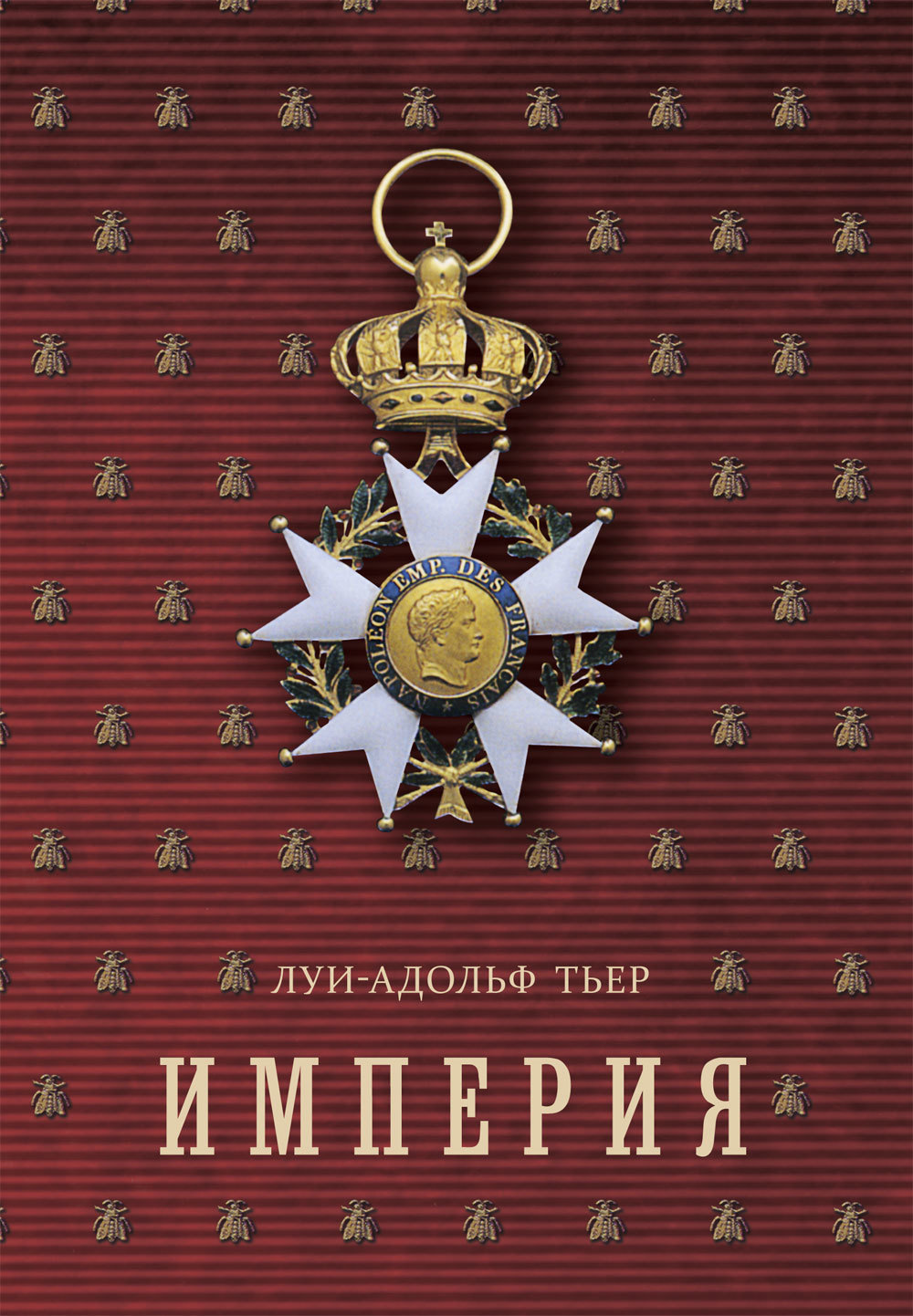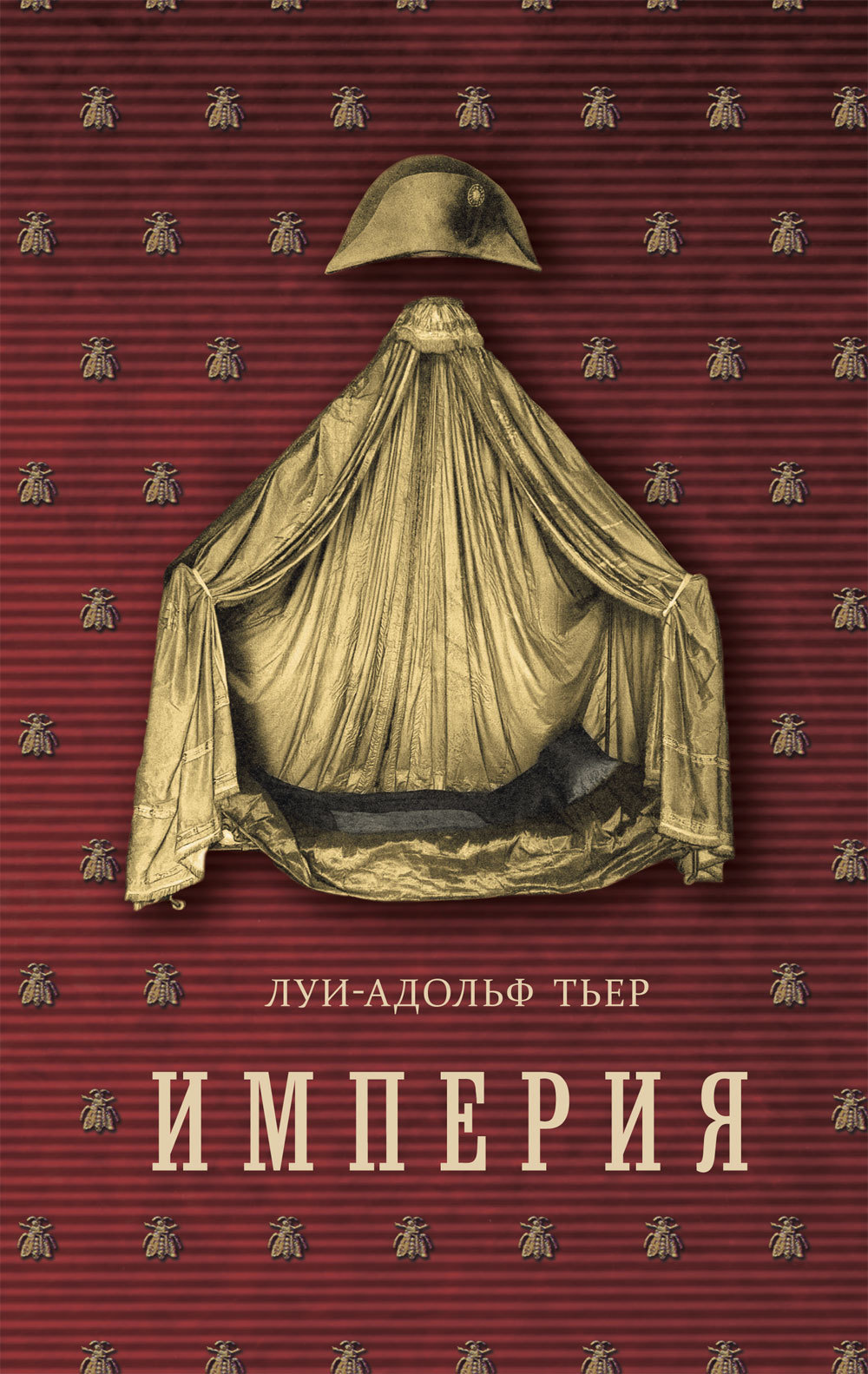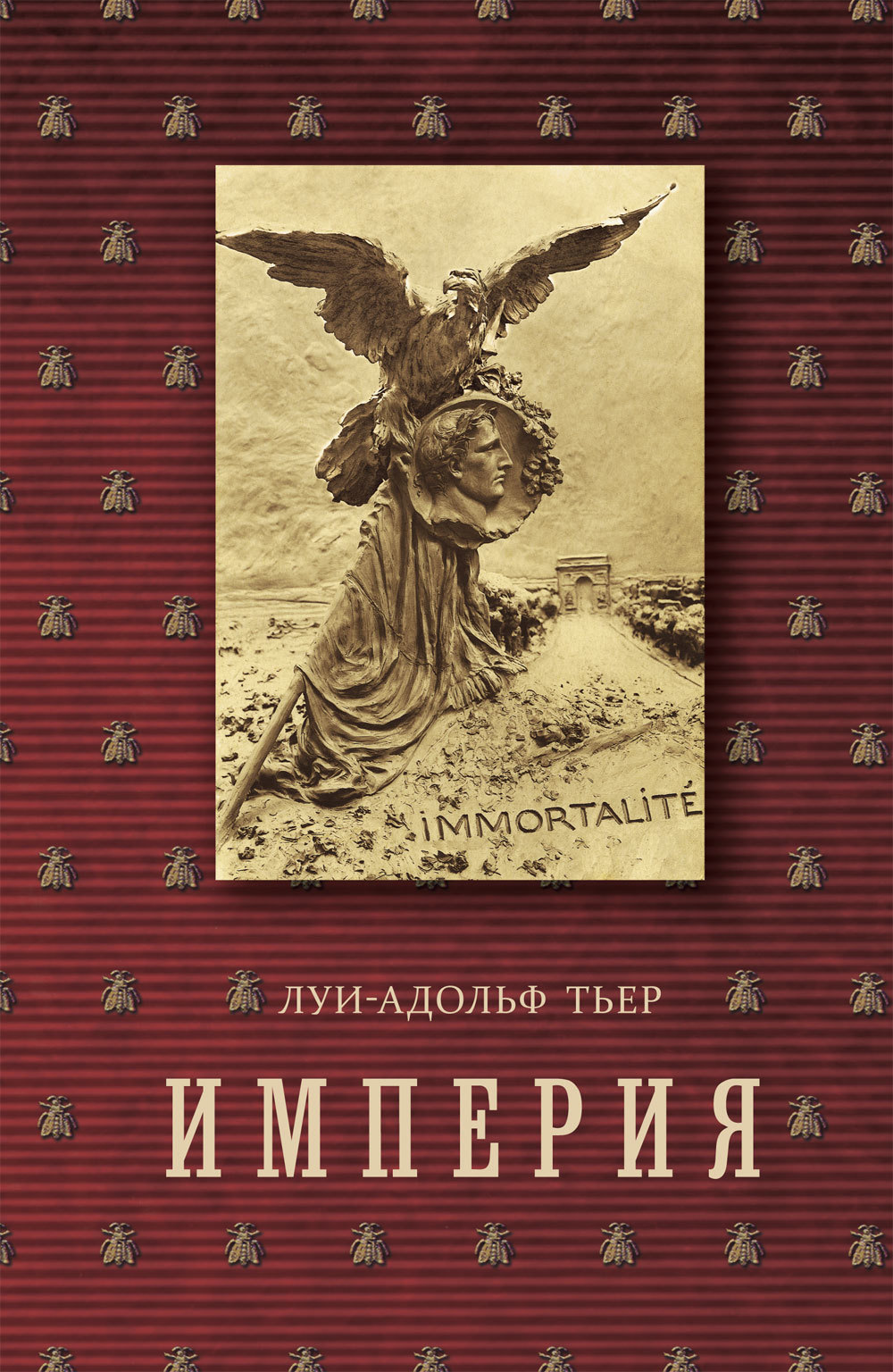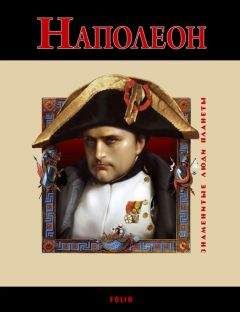другом ради такой коварной и эгоистичной державы, как Англия, и лучше объединить силы ради мира и величия – мира, если Лондонский кабинет отречется, наконец, от своих притязаний на море, и величия, если он вынудит Европу и дальше идти по пути мучений и жертв; что в таком случае каждый должен подумать о себе и о собственных интересах, и настало время России подумать о своих. Доходя до этого пункта и не решаясь раскрыть все надежды, какие внушил ему Наполеон, и тем более признать существование секретного договора, каковой он обещал хранить в строгой тайне, Александр принимал таинственный, но довольный вид, предоставляя догадываться о том, о чем он сказать не решался, хотя и испытывал сильное искушение. Говоря, например, о Турции, он открыто объявлял, что подпишет с ней перемирие, но повременит выводить войска из дунайских провинций, тем более что такая затянувшаяся оккупация не вызовет никаких вопросов в Париже.
Полупризнания скорее возбуждали нескромное и досадное любопытство, нежели привлекали умы к идеям императора Александра. Впрочем, ему помогал Румянцев, который знал всё и который прежде служил Екатерине и унаследовал ее восточные притязания. Министр, как и его государь, твердил, что нужно набраться терпения, предоставить событиям идти своим чередом и что скоро случившийся в Тильзите политический поворот получит самое удовлетворительное объяснение.
Но к императору не всегда прислушивались и не всегда его слушались. Чуждая тайнам императорской дипломатии публика, уязвленная последними военными неудачами, выказывала весьма прискорбную недоброжелательность по отношению к французам. Вельможи, помнившие об изменчивости русской политики при Павле, начинали верить, что она станет столь же изменчивой при его сыне Александре, и опасались, как бы сближение с Францией не оказалось предвестником скорой войны с Англией, что могло поставить под угрозу их доходы, если британцы перестанут покупать их продукцию. Поэтому прибывший в Санкт-Петербург вскоре после подписания мира генерал Савари был весьма холодно встречен всеми, за исключением императора Александра и двух-трех семей, близких к государю. Прекрасно осведомленный о таком положении, Александр старался сделать пребывание генерала в Санкт-Петербурге переносимым и даже приятным, осыпал его любезностями, допускал почти каждодневно к себе, часто приглашал к столу и, опасаясь его донесений Наполеону, умолял набраться терпения, говоря, что всё изменится, когда последние впечатления изгладятся из памяти, а Франция что-нибудь сделает ради справедливых притязаний России. Савари с живой благодарностью отвечал на любезную предупредительность императора, выказывал себя довольным, вовсе не взволнованным неприятным приемом русского общества и исполненным веры в скорейшее изменение настроений. К тому же, чтобы постоять за себя, у Савари было достаточно ума, апломба и чувства необъятной национальной славы, которая позволяет французам повсюду шагать с высоко поднятой головой.
Пример императора Александра и его недвусмысленно выраженная воля открыли перед генералом Савари двери нескольких главных домов Санкт-Петербурга, но большинство знатных семей продолжали ему отказывать: властитель Александр был не властен над высшим обществом, которое испытывало совсем другое влияние. Слишком рано получив царский скипетр, государь предоставил все внешние признаки верховной власти матери, прежде времени низведенной к роли вдовствующей императрицы. Добродетельная, но надменная Мария Федоровна, утратившая со смертью Павла половину своей власти, находила утешение в нарочитой пышности императорского двора, которой пожелал окружить ее сын. Императрица-мать нежно любила сына, не вела и не терпела речей, которые могли бы его раздражить, но давала волю собственным чувствам, выказывая видимую отчужденность в отношении французов. Савари она приняла с холодной вежливостью. Тот вовсе не был задет, но постарался дать понять императору, что ни одно из этих обстоятельств от него не ускользает. Александр, не сдержавшись и опасаясь, что из-за его подчеркнутого почтения к матери адъютант Наполеона не сумеет распознать истинного властелина империи, схватил генерала за руку со словами: «Здесь нет иного государя, кроме меня. Я чту свою мать, но все покорятся мне, будьте в этом уверены! В любом случае я напомню всем, кому нужно, что такое моя власть!» Удовлетворенный тем, что довел императора до подобного признания, уколов его императорскую гордость, генерал Савари умолк, убедившись в его стремлении поддерживать новый альянс.
В самом деле, все с горячим нетерпением ждали, как поведет себя Англия. Открытый Тильзитский договор был обнародован. Все понимали, что в нем сказано не всё и что новое сближение с Францией предполагает секретные договоренности. Но из открытых статей договора стало известно, что Россия станет посредницей для Франции перед Англией, а Франция – посредницей для России перед Портой, и теперь все ожидали результатов этого двойного посредничества.
Верный своим обязательствам, император Александр, тотчас по прибытии в Санкт-Петербург, направил британскому правительству ноту с пожеланием восстановления всеобщего мира и предложением посредничества в деле сближения Франции и Англии. Британский посол в Санкт-Петербурге и министр иностранных дел в Лондоне приняли ноту с холодностью, не оставлявшей больших надежд на примирение. Новые английские министры, бывшие весьма посредственными учениками Питта, не склонялись к миру. Эти новички, которым фортуна назначила позднее незаслуженную честь пожинать плоды усилий Питта, хотели отличаться от своих предшественников, а поскольку предшественники умеряли политику Питта, они стремились зайти в ней дальше него.
Они вошли в правительство в марте и могли помочь воюющим державам в апреле, мае и июне, поскольку Данциг был сдан только 26 мая. Но хоть министры и поспешили обещать экспедиции на континент, они ничего не сделали – то ли по неспособности, то ли из-за озабоченности внутренними делами, ибо им пришлось бы тогда распускать парламент и созывать новый. Как бы то ни было, собрав флот в Даунсе и сосредоточив там для высадки многочисленные войска, англичане ограничились отправкой в Штральзунд одной дивизии. При известии о Фридландском сражении и Тильзитском мире министры похолодели от страха за свою страну и за самих себя, ибо, с жаром критикуя бездействие своих предшественников, теперь сами они рисковали услышать в свой адрес куда более справедливые упреки в бездействии в течение решающих месяцев апреля, мая и июня 1807 года. Следовало любой ценой совершить вылазку, которая поразит общественное мнение, снимет с правительства упрек в бездеятельности и, полезная или бесполезная, человечная или варварская, будет достаточно привлекательна, чтобы занять умы недовольных и напуганных.
В таком положении Англия решилась на нападение, которое было воспринято во всем мире как покушение на человечность, нападение не только гнусное, но и весьма дурно рассчитанное даже с точки зрения британских интересов. Речь идет о знаменитой экспедиции против Дании с целью силой принудить ее встать на сторону Англии. Будучи скверными подражателями Пит-та, английские министры захотели повторить победу над Копенгагеном, благодаря которой в 1801 году Англии удалось распустить коалицию нейтральных стран. Но когда