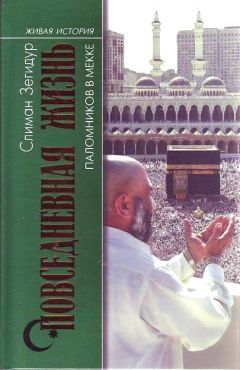«С окончанием Ярославской и началом Тверской губернии последовала крутая перемена к худшему Видишь вместо хороших домов избы, дорогу не возделанную, уже нет аллей, вместо каменных церквей деревянные странных наружностей, и версты или покривились или сгнили, упали» (181, 316).
Впрочем, и черноземный юг далеко не однообразен в своей бедности. В Тульской губернии, например, жизнь крестьян, как увидел ее английский путешественник (1829), далека от гротескных картин, нарисованных Радищевым и Кюстином.
«Большинство путешественников, опубликовавших записки о России, бывали здесь зимой, и при чтении их книг у меня сложилось представление, что я не увижу в пути ничего, кроме степей и безжизненных равнин. Однако мы были приятно удивлены, так как земля по обеим сторонам дороги, куда ни кинь взгляд, была покрыта великолепными хлебами, волнующимися подобно морю, над которым дует бриз. Такое изобилие не ограничивается этими краями — бескрайние поля простираются до самого Дона. Неудивительно, что везде мы видели довольных крестьян, в достатке имеющих простую пищу; нищие нам не встречались» (6, 139).
Картину мирной и благополучной крестьянской жизни (с обязательной игрой в бабки) рисует и другой иностранец — Эуген Хесс, ехавший по дороге Петербург — Москва летом 1839 года:
«Около полудня мы попали в огромный лес (между Валдаем и Новгородом. — Н. Б.) и ехали через него до вечера. Как почти во всех других лесах, здесь были заметны следы пожаров, по-видимому последствия большой жары.
Деревни здесь бедные, но очень большие и красивые, и состоят из деревянных с остроконечными крышами домов, с большим вкусом украшенных художественной резьбой. Почти все дома выстроены вдоль дороги на некотором расстоянии друг от друга. Их разделяют меньшие по размерам хозяйственные постройки и сады. Сегодня воскресенье, и поэтому деревенские жители, все очень красиво наряженные, сидели перед воротами своих домов и развлекались болтовней, пили чай и пели под балалайку. Но самым главным развлечением была игра во что-то вроде кеглей, заключающаяся в том, что выставляются маленькие кости и их надо сбить другой костью. Эту простую игру которой у нас забавляются только дети, страстно любят даже взрослые русские» (203, 104).
Самым обычным видом, постоянно проплывавшим перед глазами путника, были крестьянские избы. Их местные особенности только подчеркивали общую, отточенную веками конструкцию и планировку. И если для русского путешественника изба с ее атрибутами была чем-то давно известным и очевидным, то для иностранца она являлась предметом наблюдения и изучения. Вот как описывает русскую избу в деревне между Смоленском и Оршей Эуген Хссс (1839).
«На обратном пути, проезжая через какую-то деревню, мы остановились у крестьянского дома и вошли в него, чтобы немного отдохнуть от жары. Вот тут-то мы и смогли всё очень точно рассмотреть.
Русская крестьянская изба целиком построена из круглых, очищенных от коры бревен, которые положены друг на друга и вырезаны так, что по углам концы одного бревна входят в концы другого. Щели затыкаются паклей. Щипец довольно острый, а крыша крыта досками или соломой. Печные трубы из кирпича и низкие. Все русские очень заботятся о красоте окон. Обычно они большие и дают много света, а с внешней стороны, наверху и внизу украшены пестро расписанной резьбой.
Около жилого дома, примерно в восьми—двенадцати футах от него, как правило, стоит амбар, тоже сложенный из бревен, где находится хлев и прочее. Большие ворота, рядом с которыми есть маленькая калитка, соединяют амбар с домом. А сзади эти два здания объединены третьим, имеющим длинную дощатую стену и крышу, подпертую спереди столбами. Здесь стоят телеги, сани, плуги и тому подобное.
Внутренность избы состоит фактически из одной комнаты, в которой и живет семья. Комната небольшая, с низким потолком и стенами из обтесанных бревен. В пакле, которой заткнуты щели, скрывается великое множество вредных насекомых.
Значительную часть комнаты, больше четверти, занимает огромная печь. Это как раз та самая часть дома, на которой, рядом с которой и в которой русский крестьянин, в сущности, и живет. Печь сложена на глине из обожженной глиняной плитки, которая от жара и дыма со временем становится черной. В ней много самых разных устройств, благодаря чему в ней можно варить и печь, а что еще требуется от простой кухни? В печи женщины моются, а мужчины, когда хотят почувствовать себя счастливыми, залезают в нее, чтобы оказаться в парной бане в собственном смысле этого слова.
Внизу к подножью печи приделана глиняная лежанка для сна, и можно было бы подумать, что там уже достаточно тепло. Так нет, русские устраивают свою постель на самом верху печи и совершенно счастливы, оказавшись зажатыми между закопченным от дыма потолком комнаты и этим вулканом.
Обычно вблизи печи стоит также самый необходимый для русского домашнего обихода предмет, а именно самовар, или чайный котел. Никакой настоящий русский не может быть доволен жизнью без чая. Весь день он пьет горячий или холодный чай, конечно, без молока и без сахара. Лишь иногда он положит в рот крохотный кусочек сахара.
На печи находится также место и для многочисленных предметов, необходимых в доме, таких как каркас для сушки белья, кухонная посуда и разнообразные инструменты.
По стенам вдоль всей комнаты поставлены лавки, в одном из углов стол, и над ним висит большой священный образ, в котором написаны только голова и руки, а все остальное покрыто золотом и серебром, очень богато проработанным рельефом, и иногда со вставками из драгоценных камней и жемчуга.
Вообще-то несколько странно, что чопорный византийский стиль с его маленькими, угловато нарисованными старцами и т. д., который находишь в тысячелетних церквях древней Руси, сохранился в этих священных образах до сегодняшних дней. Они тоже написаны в технике энкаустики. Сверху, с потолка, на цепи свисает очень изящная серебряная филигранная лампада. Обе эти вещи, образ и лампада, могут быть пышными или скромными, но они непременно присутствуют даже в самой бедной хижине.
На столе лежит продолговатый кусок полотна, концы которого отделаны белой и красной бахромой и очень тонко вышиты красным. Убранство комнаты завершают несколько плохих, пестро раскрашенных гравюр на стенах с сюжетами из священной истории или портретами императора, полководцев и т. д.
После того как мы напились в этом крестьянском доме молока, мы поехали дальше, домой» (203, 55).
* * *
Часто из окна своей повозки путник видел обычные в русских деревнях пожары. На помощь попавшему в беду приходила вся деревня.
«В одном селе из-за ужасной грозы нам пришлось задержаться часа на два на три. Над деревянными домами устрашающе сверкали молнии, одна попала в избу, и та загорелась. Затрезвонил церковный колокол, и все жители деревни под проливным дождем бросились к горящей избе. На каждом доме имеется обозначение, кому что иметь при себе в случае пожара. Один мужик прибежал с топором, другой — с багром, женщины несли ведра и горшки. Крестьяне, ожесточенно сражавшиеся с огнем, очень ловко растащили часть горящей избы, а пожарище залили водой. На деревню огонь не распространился» (6, 96).
* * *
Обычной картиной, весьма удивлявшей иностранцев, было медленно бредущее посреди села и даже города стадо коров.
«В Петербурге много коров, и потому на самых красивых улицах каждый день и утром, и вечером можно услышать игру пастухов на самых настоящих альпийских рожках. Эти коровы всегда идут посередине улицы, и поэтому им приходится прокладывать себе дорогу сквозь все опасности уличной толчеи» (203, 19).
Тоска бесконечных равнин…
Обычный среднерусский пейзаж, проплывающий перед глазами путешественника, не отличается разнообразием. Вид бесконечных равнин или столь же бесконечных лесов клонит в сон. Разговор попутчиков затихает, сменяясь молчаливой созерцательностью.
Эта дорожная скука, уныние, какая-то индийская нирвана — постоянная рамка всех дорожных картин русских писателей второй четверти XIX века.
Вот едут из Москвы в Казань два симпатичных помещика, Василий Иванович и Иван Васильевич, из повести В. А. Соллогуба «Тарантас». Романтически настроенный Иван Васильевич, собиравшийся в дороге вести журнал и записывать наблюдения, печально говорит сам себе:
«Но вот я еду четвертый день, и слушаю и прислушиваюсь, и гляжу и вглядываюсь, и, хоть что хочешь делай, ничего отметить и записать не могу. Окрестность мертвая; земли, земли, земли столько, что глаза устают смотреть; дорога скверная… по дороге идут обозы… мужики ругаются… Вот и всё… а там: то смотритель пьян, то тараканы по стене ползают, то щи сальными свечами пахнут… Ну можно ли порядочному человеку заниматься подобною дрянью?.. И всего безотраднее то, что на всем огромном пространстве господствует какое-то ужасное однообразие, которое утомляет до чрезвычайности и отдохнуть не дает… Нет ничего нового, ничего неожиданного. Всё то же да то же… и завтра будет, как нынче. Здесь станция, там опять та же станция, а там еще та же станция; здесь староста, который просит на водку, а там опять до бесконечности всё старосты, которые просят на водку… Что же я стану писать? Теперь я понимаю Василия Ивановича. Он в самом деле был прав, когда уверял, что мы не путешествуем и что в России путешествовать невозможно. Мы просто едем в Мордасы. Пропали мои впечатления!» (172, 44).