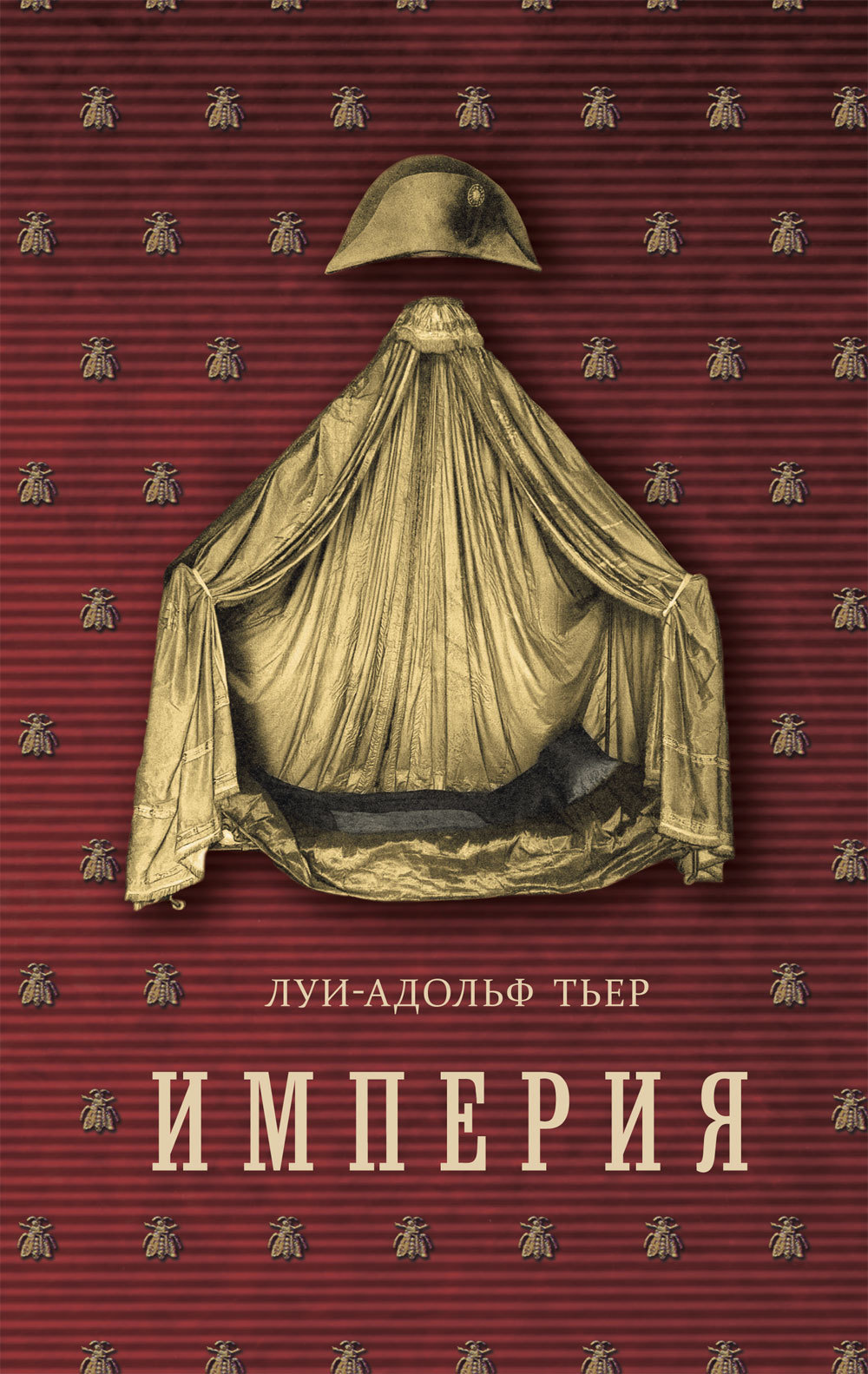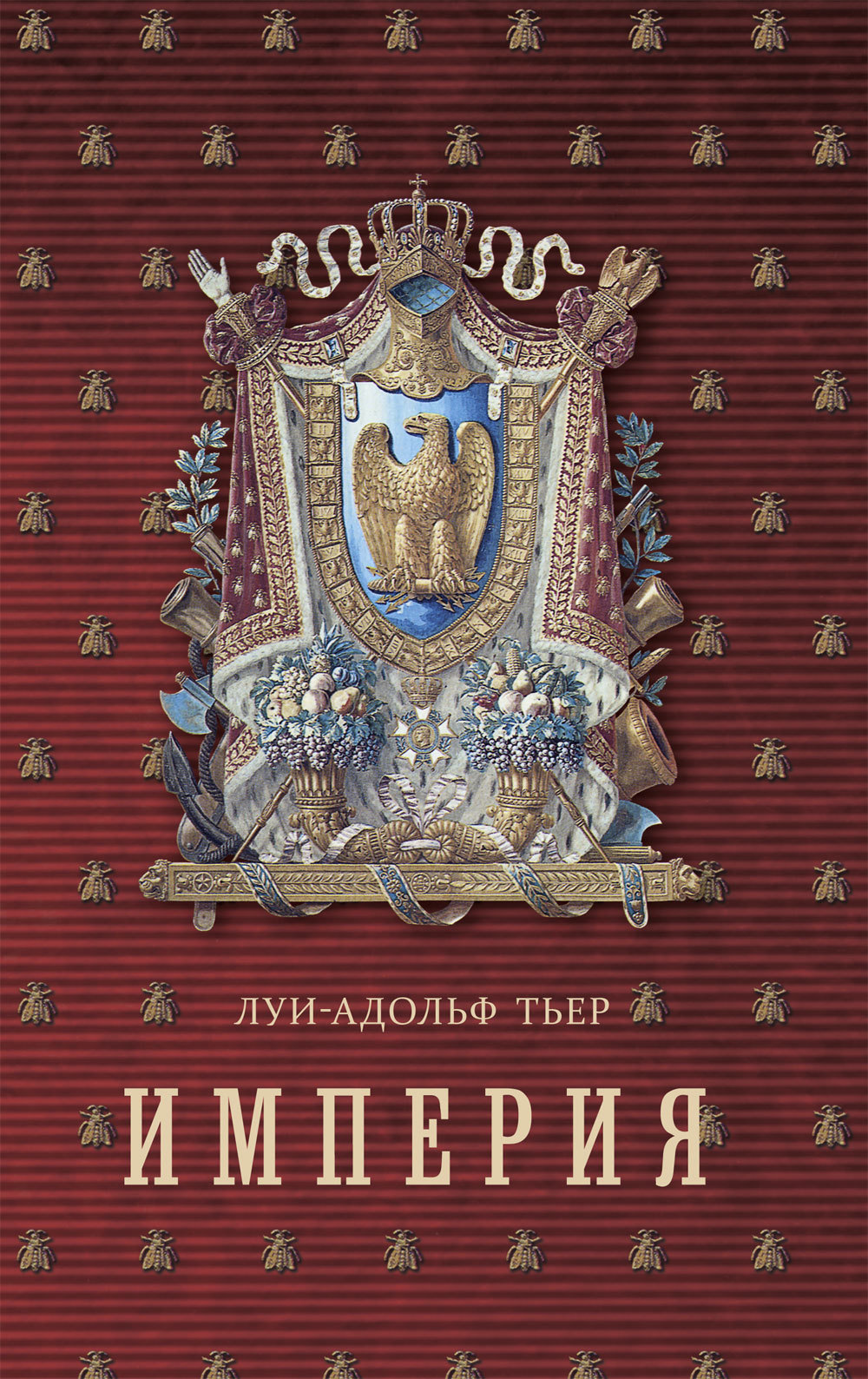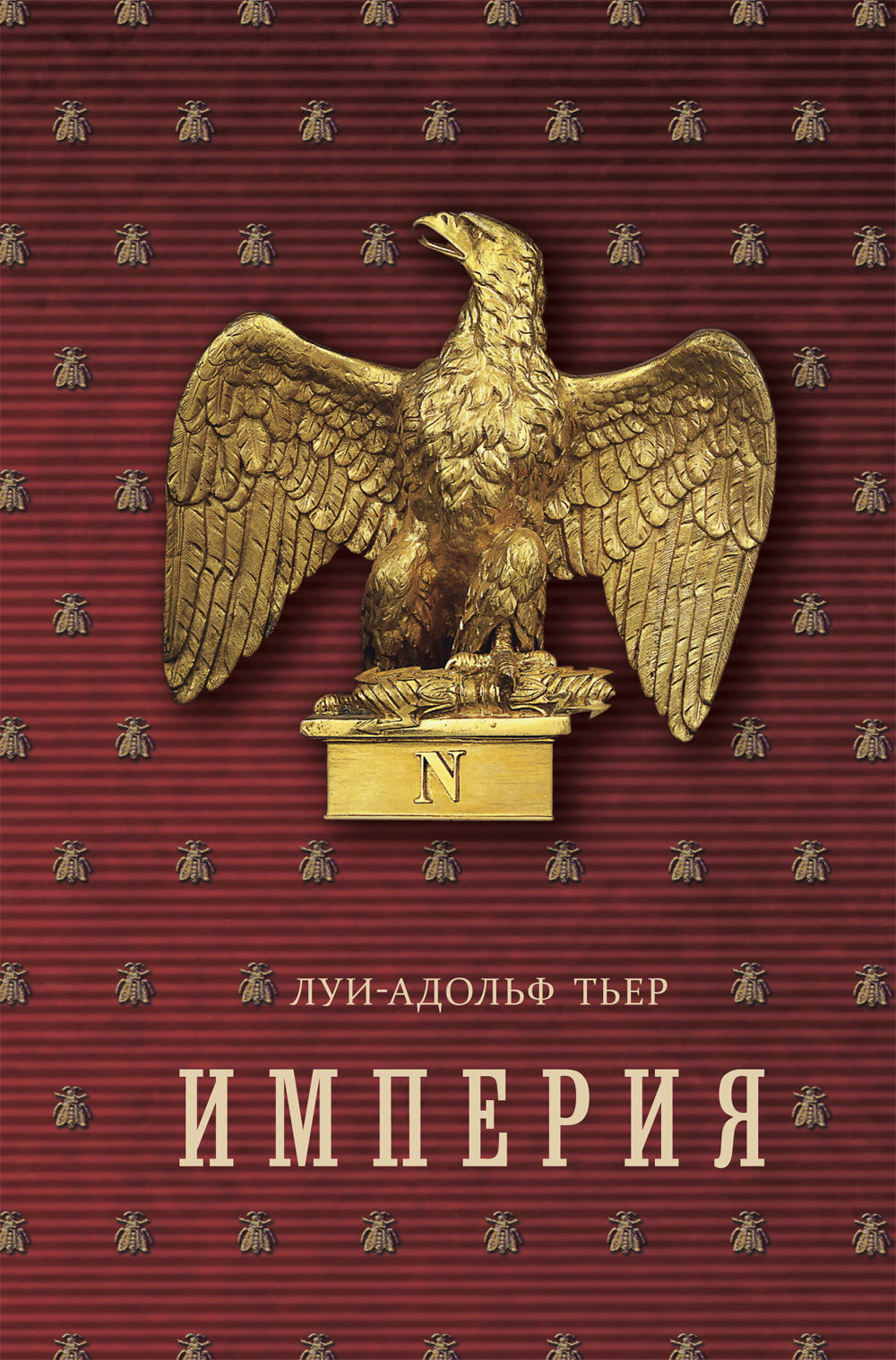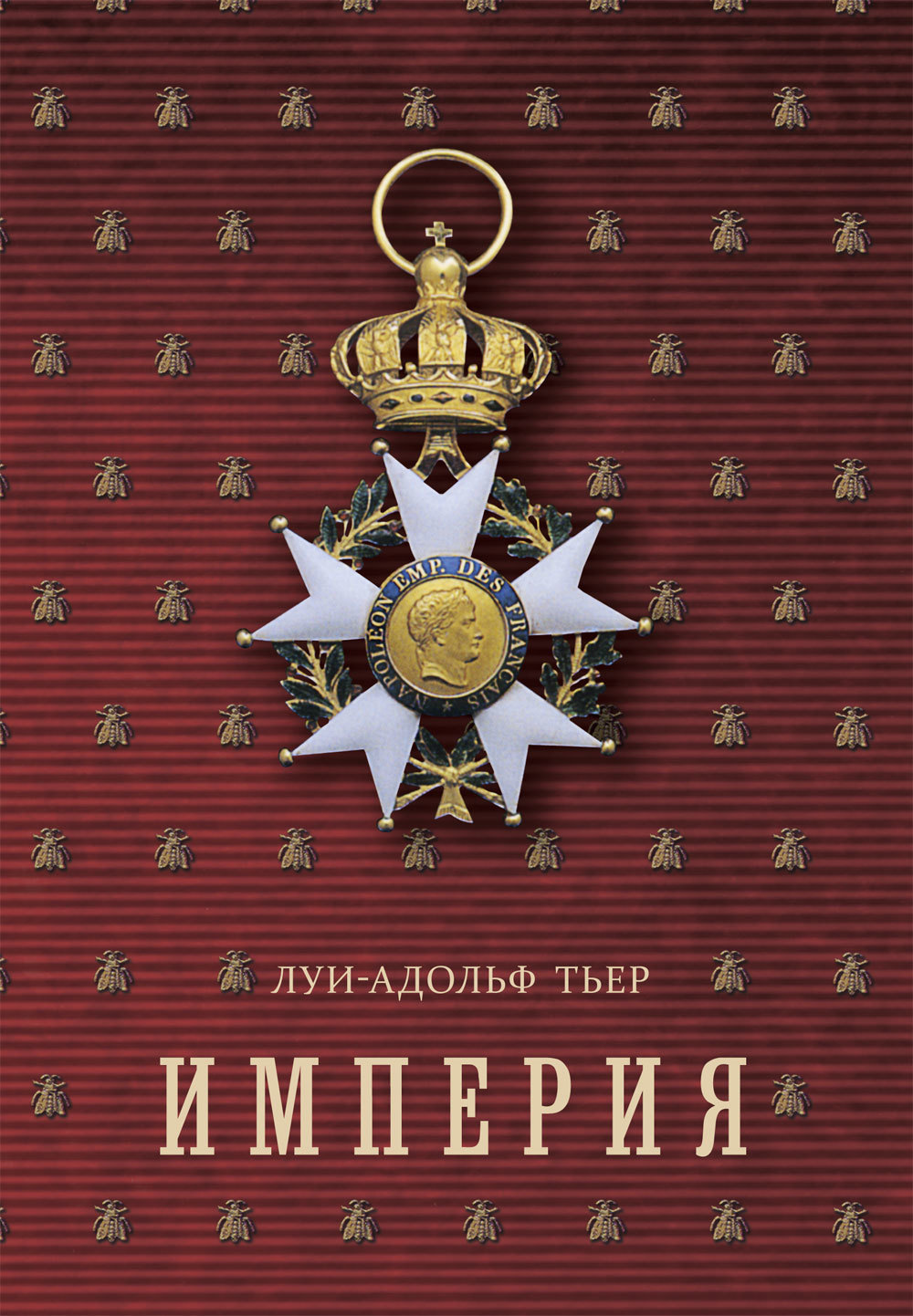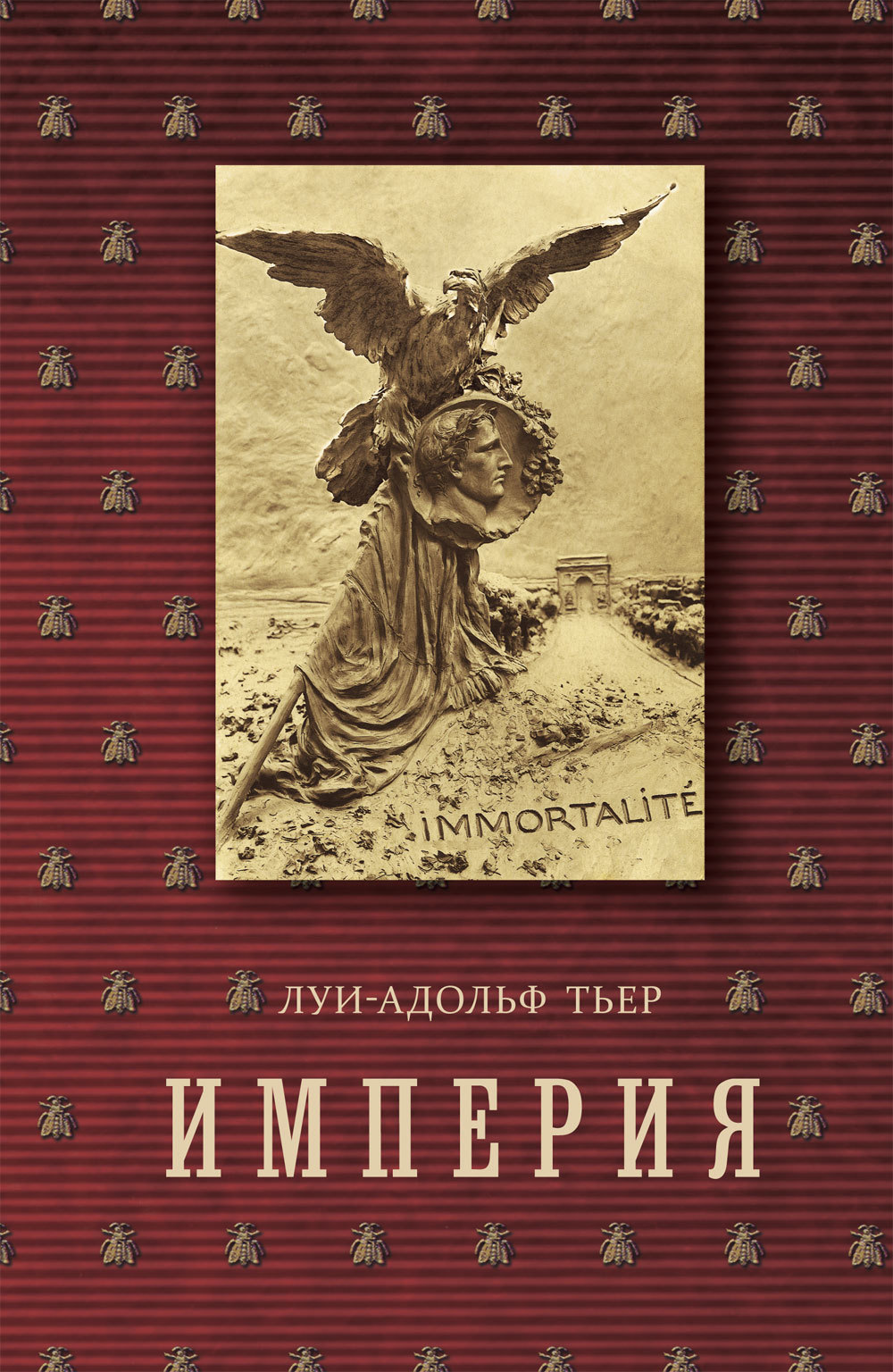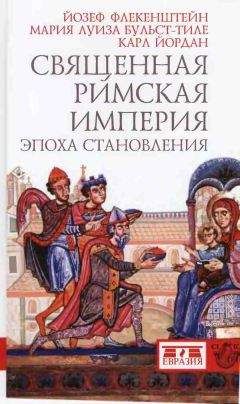такое же молчаливое одобрение, как и акт, но роялисты настолько спешили провозгласить результат, что уже заранее развесили по Парижу декларацию о низложении без упоминания каких-либо мотивов.
С этой минуты главное дело можно было считать свершившимся, ибо провозглашение низложения освобождало французов от присяги Наполеону и его семье. Однако недостаточно было разбить законные связи, соединявшие Францию с императорской династией, требовалось отнять у Наполеона все средства вновь получить скипетр, вырванный из его рук. И хотя от императора прикрылись двумястами тысячами солдат, чувство страха охватывало время от времени творцов совершавшейся революции, особенно когда они думали о человеке, находившемся в Фонтенбло, о том, что он делает и способен сделать. У него оставалась армия, сражавшаяся под его командованием, подкрепленная собранными гарнизонами, и войска, сражавшиеся под Парижем. У него оставались превосходные армии маршалов Сульта и Сюше и Лионская армия Ожеро. Они были, разумеется, далеко, но ведь Наполеон с легкостью мог подтянуть их к себе или пойти к ним; наконец, у него оставалась Итальянская армия. Чего только не мог он предпринять с подобными средствами, при его отчаянии и всей силе его талантов, которые за последние два месяца получили столько ужасных доказательств?
Было средство предотвратить опасность, спровоцировав в армии движение, подобное происходившему в Сенате. Усталость, конечно, присутствовала не только у гражданских служителей Империи, она была по меньшей мере столь же сильна среди военных. Беспрестанно гоняя свои корпуса вслед за Наполеоном из Милана в Рим, из Вены в Мадрид, из Мадрида в Берлин и из Берлина в Москву, не видя окончания своим тяготам, редкие выжившие из числа двух миллионов солдат должны были испытывать усталость более сильную, нежели утомленные чужими тяготами сенаторы. Обладая славой и богатыми наградами за бесконечные опасности, они следовали, хотя и небезропотно, за своим удачливым полководцем. Но теперь, когда система наград и пожалований, простиравшаяся, как и колоссальное здание Империи, от Рима до Любека, рухнула, когда слава утратила блеск побед и сделалась горькой славой героически понесенных поражений, вполне можно было ловкими происками превратить ропот в протест, а протест – в военный мятеж. К тому же военным можно было привести весьма убедительные доводы. Ведь речь шла об оставлении Наполеона не ради врага и даже не ради Бурбонов, что вызвало бы в одних угрызения совести, а в других – глубокое отвращение, а ради присоединения к временному правительству, порожденному теми самыми невзгодами, которые Наполеон навлек на Францию. Да и правительством были не враги и не Бурбоны, хотя враги и были его опорой, а Бурбоны – целью; правительством стало собрание выдающихся деятелей Империи, объединившихся в Париже, оставленном женой и братьями Наполеона, оголенном его ошибочным маневром и захваченном неприятелем, людей, объединившихся ради спасения страны, примирения с Европой и прекращения гибельной и бессмысленной войны.
Столь разумные мысли были понятны и близки любому здравомыслящему человеку, и тем более им должны были внять военачальники, изнуренные войной и озабоченные своими выгодами. Большинство из них имели, помимо общих неудовольствий, неудовольствия частные, ибо во время последней кампании от Наполеона доставалось многим его соратникам, и он бранил их с грубостью необузданного и деспотичного характера. Однако следует к их чести сказать, что ни один не склонился перед неприятелем и самые уставшие и недовольные нередко становились и самыми храбрыми. Но бывает предел всему, даже преданности, особенно когда для нее более нет законной причины, и люди чувствуют себя принесенными в жертву страстям безрассудного повелителя. А ведь именно таким и должен был казаться Наполеон людям, убежденным в том, что он всегда мог заключить мир, но никогда этого не хотел.
В нижних чинах армии порой возникало сильнейшее чувство физической усталости, но чтобы прогнать его, довольно было появления солнца, сытной еды, часа отдыха и самого Наполеона. Самый опасный вид усталости, усталости моральной, проявлялся среди военачальников, и она была соразмерна званию. Огромная у генералов, она доходила до крайности у маршалов.
Среди маршалов был один, тот, которого менее всего можно было заподозрить, но на которого Талейран, с его способностью распознавать слабые души, заранее указал как на человека, быстрее всех способного поддаться годным и негодным доводам. Этим человеком был не кто иной, как маршал Мармон. Этот офицер, которого Наполеон сделал маршалом и герцогом скорее из снисходительности к бывшему соученику, нежели из уважения к его талантам, считал себя не оцененным императором по достоинству. Талейран превосходно распознал терзания неутоленного тщеславия в беседе с Мармоном 30 марта и назначил маршала будущей целью соблазнения. В минуту кризиса тщеславие и в самом деле есть цель, к которой с большой вероятностью успеха может направиться интрига.
В тех обстоятельствах Мармон занимал положение, которое должно было, как и его характер, привлечь к нему все усилия соблазнителей. Он только что с блеском оборонял Париж, приписал себе всю честь этой обороны, хотя половина ее по праву полагалась маршалу Мортье. Он расположился со своим армейским корпусом на Эсоне и прикрывал соединение, формировавшееся в Фонтенбло, и его переход на сторону временного правительства решил бы вопрос, остававшийся нерешенным из-за неукротимого характера и гения Наполеона. Стали искать посредника и нашли его в лице Монтессюи, старого друга и бывшего адъютанта Мармона. Монтессюи некогда оставил армию ради успешной карьеры в сфере финансов, разделял все здравые идеи буржуазии об императорском деспотизме и войне и имел на Мармона влияние, какое нередко имеют адъютанты на своих генералов, поскольку знают их слабости и умеют ими пользоваться. Монтессюи вручили письма от членов нового правительства, как для Мармона, так и для других военачальников, и отправили его на Эсон.
К этому средству добавили и другое, не менее действенное. С тех пор как Наполеон, удалившись в Фонтенбло, казалось, сосредоточивал там свои силы, часть армии союзников передвинули на левый берег Сены. В Париже и в окрестностях собрали резервы, подтянули корпус Бюлова, использовавшийся поначалу для блокады Шалона, и расположили между Жювизи, Шуази-ле-Руа, Лонжюмо и Монлери значительную часть войск коалиции. Штаб-квартиру князя Шварценберга расположили неподалеку от Эсона, чтобы главнокомандующий был готов воспользоваться первой же слабостью Мармона. Мармон стал не единственным предметом этих происков; к маршалу Удино отправили офицера из его родственников, маршалу Макдональду послали письмо от его друга Бернонвиля, наконец, в Фонтенбло отправили группу эмиссаров, в большинстве своем военных.
Во всех сообщениях, письменных и устных, говорилось о том, что люди принадлежат стране, а не одному человеку, что этот человек погубил Францию, что еще имело бы смысл сохранять ему преданность, если бы он имел средства спасти страну, но он более ничего не может сделать, разве только бессмысленно