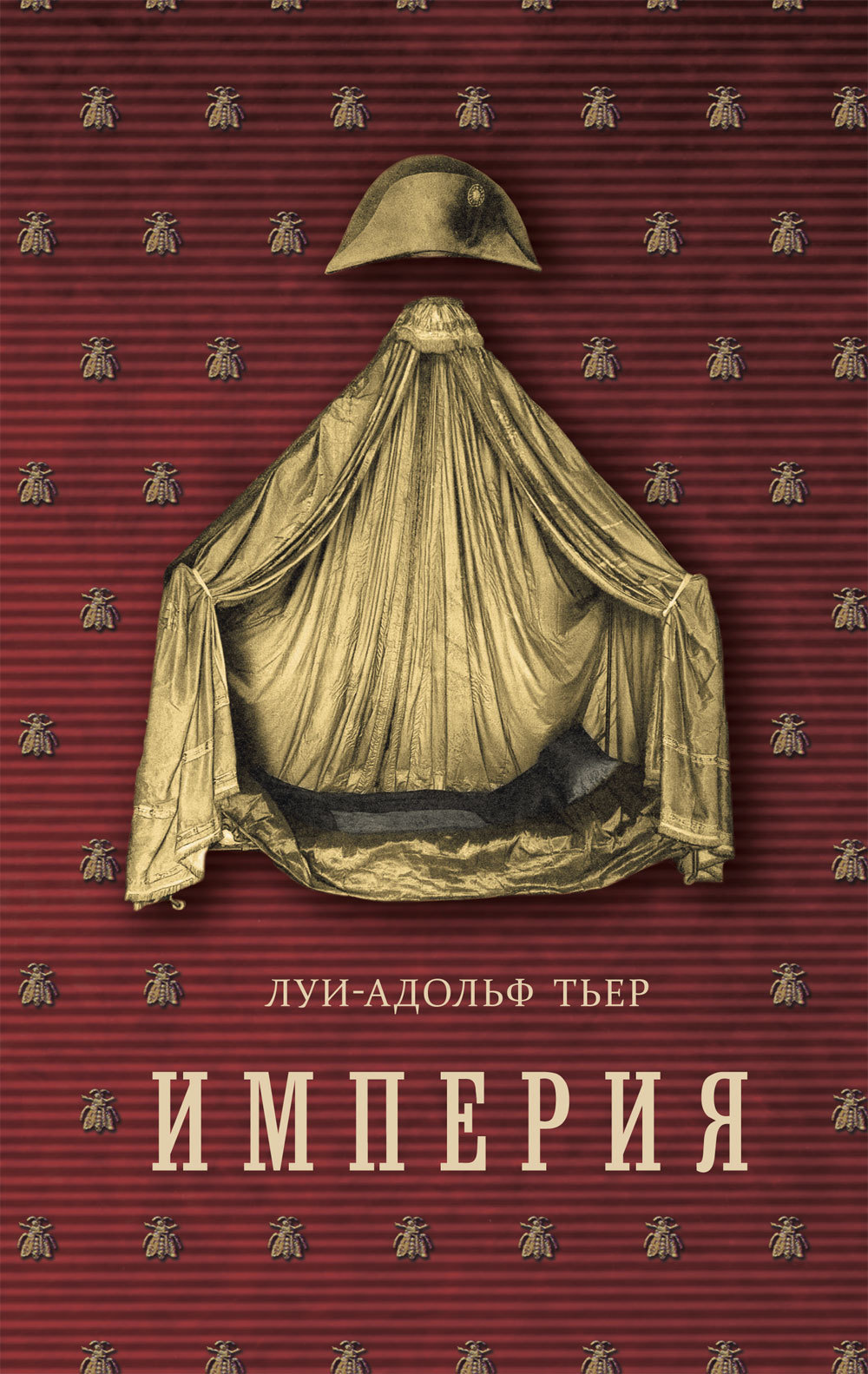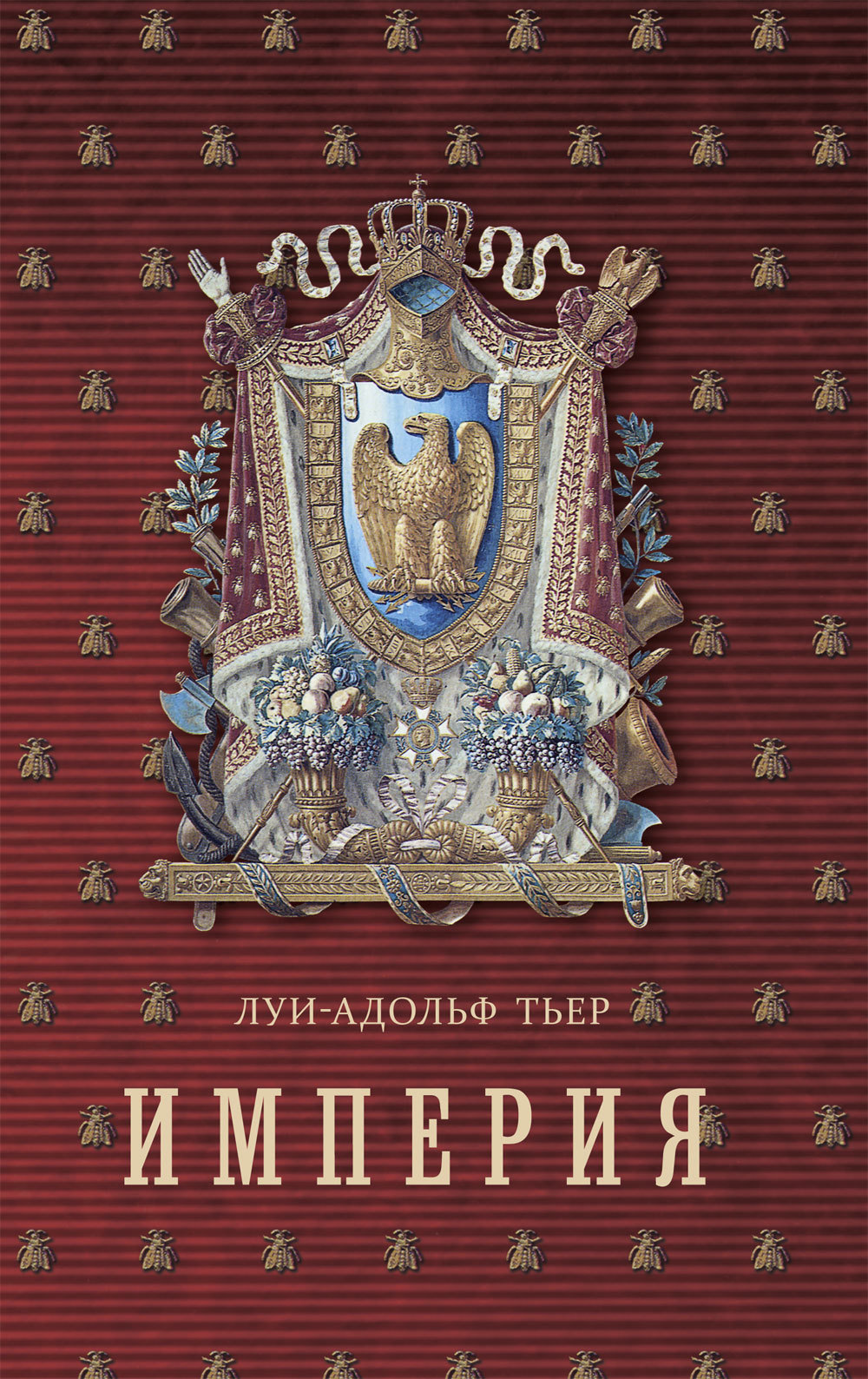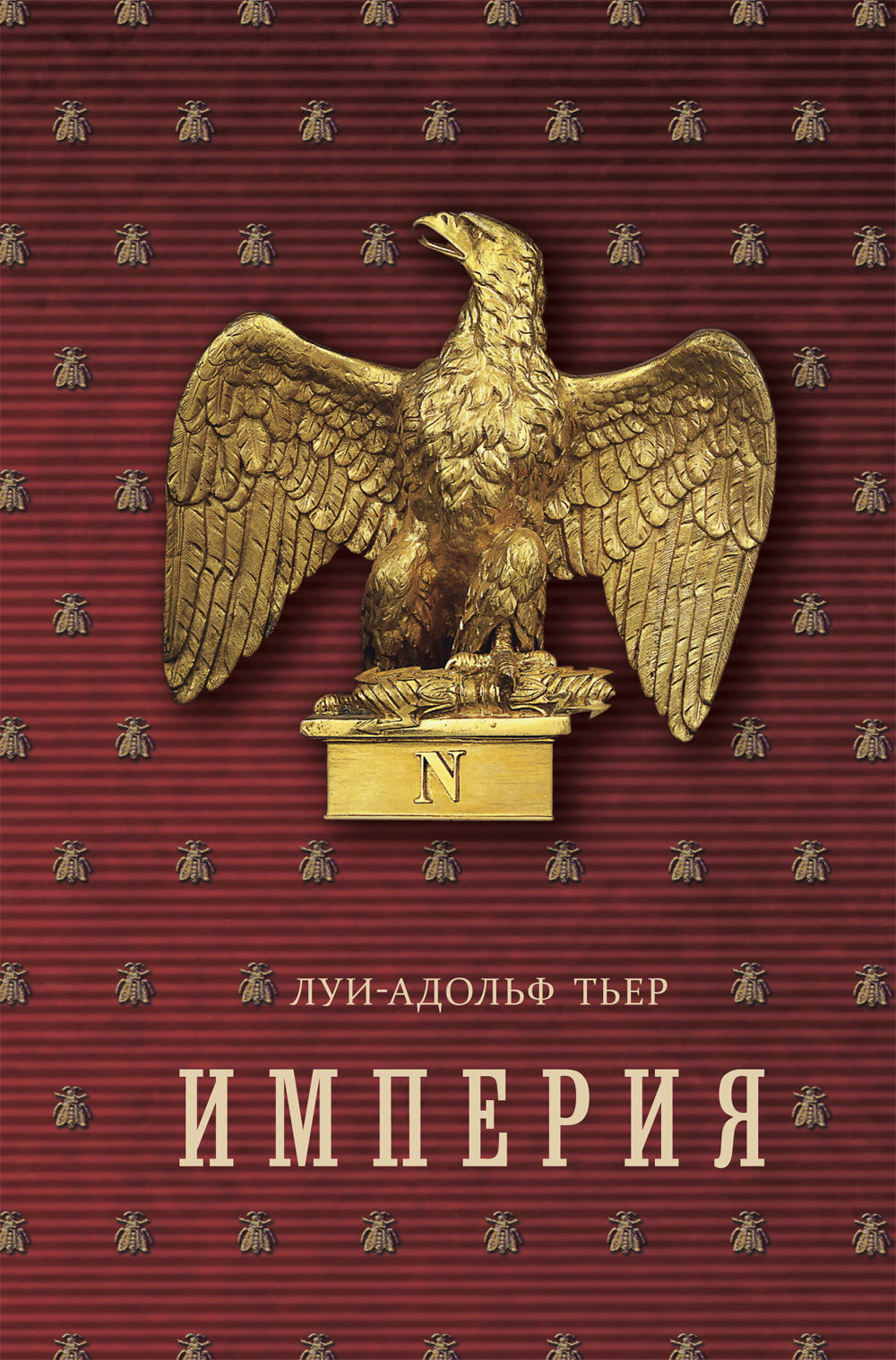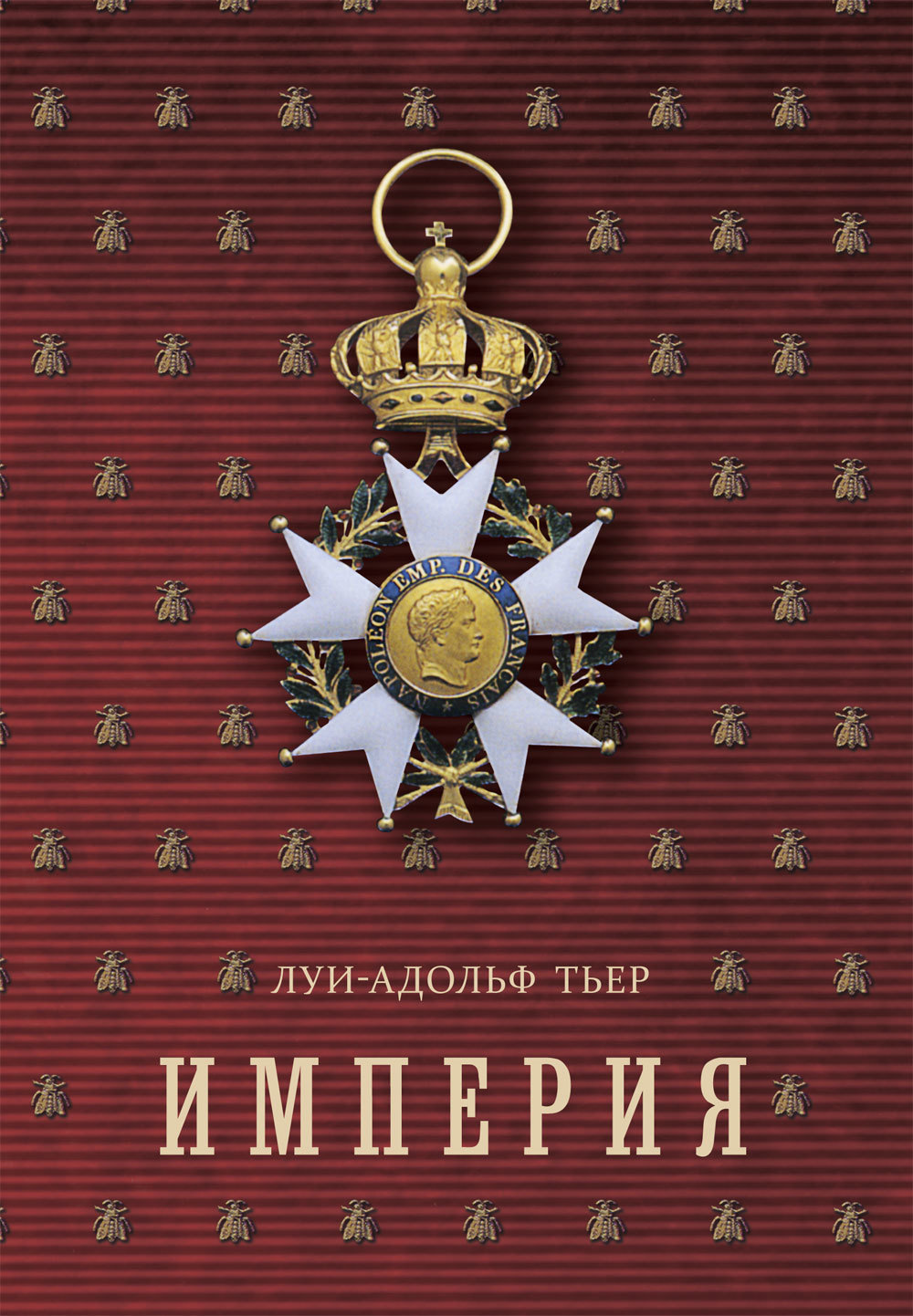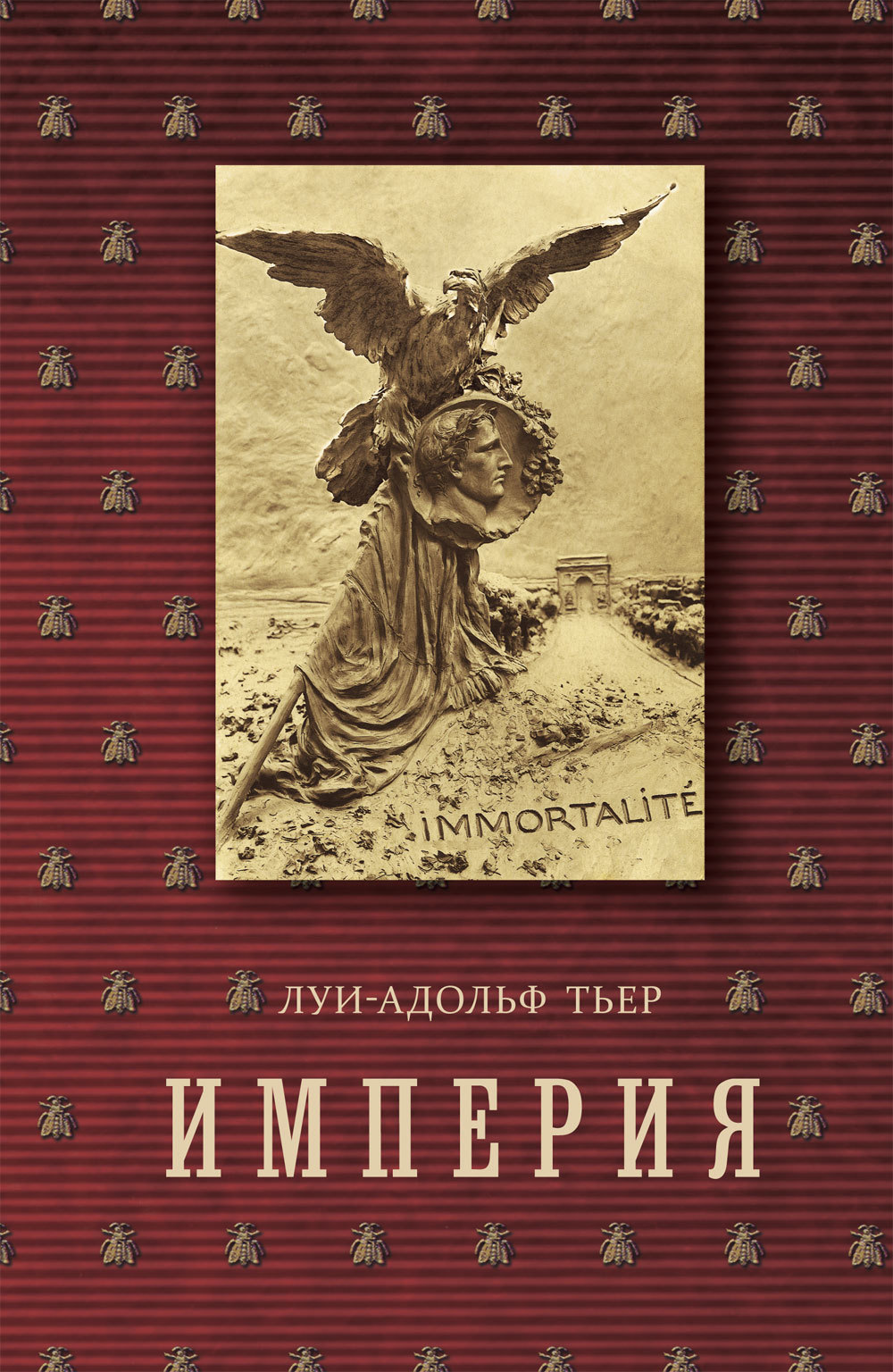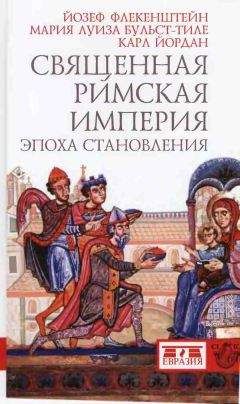проливать благородную кровь, уже столь обильно пролитую. Европа решила не вести с ним более переговоров, и любому правительству, за исключением его правительства, она готова уступить почетные условия. А поэтому нужно немедля переходить на сторону временного правительства, с которым Европа склонна вести переговоры. К этим здравым и честным доводам добавлялись и менее возвышенные, хоть и благовидные: Бурбоны, возвращение которых уже близко, с распростертыми объятиями примут военных – особенно тех, кто придет первым.
Кроме того, творцы новой революции позаботились отослать из Парижа Коленкура, ибо этот человек, допущенный к Александру столь же близко, как в то время, когда он представлял в Санкт-Петербурге победителя Аустерлица и Фридланда, стеснял их своим присутствием так же, как стеснял некогда на Шатийонском конгрессе. Ведь пока оставалась видимость переговоров с низложенным императором, ничто не могло быть надежным в их глазах, и они дали понять царю, что не разумно и не великодушно вынуждать их компрометировать себя и дальше, если остается хоть малейший шанс на сближение с Наполеоном. Александр всё понял. Хотя ему было неприятно говорить Коленкуру правду, он сказал ему, что никто больше не хочет иметь дела с Наполеоном; что Франция устала от него не меньше, чем Европа; что нужно подчиниться необходимости и отказаться от мысли о возможности его правления; что те, кто любит Наполеона, могут оказать ему только одну услугу – убедить его покориться, и это единственное средство добиться для него менее суровой участи. Говоря о менее суровой участи, Александр дал понять, что речь может идти об уединенном пристанище для него и о троне под регентством Марии Луизы для его сына.
Коленкур, хоть и не склонный к иллюзиям, затаил некоторую надежду и подумал, что королю Римскому могут предложить трон Франции под опекой его матери. «Уезжайте, ибо меня всякую минуту просят отослать вас, – сказал ему Александр. – Мне твердят, что ваше присутствие пугает людей и внушает им страх к возвращению Наполеона. В результате мне придется вас удалить, ибо ни я, ни мои союзники не хотим позволять подобные предположения. Я вовсе не держу на него зла, поверьте. Но и Франция, и Европа нуждаются в покое, а с ним они никогда его не получат. Наше решение бесповоротно. Пусть он требует для себя чего угодно: нет такого пристанища, какое бы мы не расположены были ему предоставить. И если он захочет принять помощь от меня, пусть приезжает в мою страну, где получит великолепный и даже сердечный прием. Если я предложу, а он примет пристанище в моей стране, мы с ним подадим великий пример всему миру. Но для переговоров нет иного возможного основания, кроме его отречения. Езжайте же и возвращайтесь скорее с разрешением вести переговоры на этих единственных допустимых для нас условиях».
Коленкур попытался выведать, спасет ли Наполеон своим отречением трон сына. Александр отказался от объяснений и только сказал, что вопрос относительно Бурбонов решен не окончательно, хотя всё, похоже, ведет к ним, затем он выказал прежнюю холодность в их отношении и снова настоял, чтобы Коленкур как можно скорее занялся устройством личной участи Наполеона. Коленкур спросил еще, дадут ли Наполеону Тоскану взамен Франции. «Тоскану! – воскликнул пораженный Александр. – Хотя это и совсем немного в сравнении с Французской империей, неужели вы думаете, что державы оставят Наполеона на континенте, а Австрия потерпит его в Италии? Это невозможно». – «Но может быть Парма или Лукка?» – «Нет, нет, только не континент, – повторил Александр. – Возможно, остров Корсика…» – «Но Корсика принадлежит Франции, – возразил Коленкур, – и Наполеон не примет один из ее обломков». – «Что ж, тогда остров Эльба, – сказал Александр. – Поезжайте, склоните вашего повелителя к покорности, и тогда посмотрим. Мы сделаем всё, что будет уместно и почетно. Я не забыл, что положено столь великому и несчастному человеку».
После таких слов Коленкур уехал в убеждении, что Наполеону не на что надеяться для себя, кроме военного чуда, и почти не на что для сына, и что он обязан донести до своего императора правду. Он пустился в путь вечером 2 апреля, в ту минуту, когда ожидалось провозглашение низложения, и прибыл в Фонтенбло среди ночи.
Тогда как в Париже Коленкур напрасно старался удержать государей от крайних решений, Наполеон в Фонтенбло не терял времени. Сетования были столь же несвойственны его великому характеру, как иллюзии – его великому уму. Если временами он и предавался иллюзиям, то лишь в виде извинения или поощрения своих дерзких замыслов, не обманываясь ими до конца. В невзгодах он не страшился смотреть правде в глаза и умел принимать ее, не бледнея. Даже будучи вне Парижа, Наполеон почти угадывал, что там происходило; он предвидел, что государи постараются извлечь все последствия из своего триумфа, что Сенат от него отвернется и только великая военная победа сможет предотвратить эту двойную неудачу. Поэтому по возвращении в Фонтенбло Наполеон обложился картами и войсковыми списками и, верным глазом определив прекрасную, но ужасную возможность, решил не упускать ее.
Потеряв убитыми и ранеными около 12 тысяч человек под стенами Парижа и подтянув к себе корпус Бюлова, союзники насчитывали 180 тысяч солдат. Наполеон располагал, прибавив корпуса Мортье и Мармона и кое-какие войска с берегов Йонны и Сены к тем, кого уже привел, не менее чем 70 тысячами. Несоответствие было огромным, но чувства армии (мы говорим о чувствах, царивших в нижних чинах), гений Наполеона и местные обстоятельства могли компенсировать численное меньшинство, и всё позволяло предвидеть огромную катастрофу для коалиции.
Как бы то ни было, Наполеон задумал план, результат которого не вызывал у него сомнений, а успех которого, хотя бы вероятный, могут оценить потомки. С тех пор как он расположился в Фонтенбло и сосредоточивал там войска, союзники разделились на три части: первая, в 80 тысяч человек, находилась на левом берегу Сены между Эсоном и Парижем, вторая – в самом Париже, а третья располагалась вне Парижа на правом берегу Сены. Наполеон рассматривал положение, которое они заняли, как смертельное для них, если суметь им воспользоваться. Он хотел внезапно перейти со своей армией через Эсон, оттеснить 80 тысяч человек Шварценберга на парижские предместья, призвать парижан присоединяться к нему и, воспользовавшись вероятным замешательством захваченных врасплох союзников, разгромить их, вступив вслед за ними в город либо внезапно перейдя на правый берег Сены и бросившись на их линию отступления. И весьма вероятно, что с 70 тысячами человек Наполеон опрокинул бы 80 тысяч, непосредственно ему противостоявших; что те, будучи оттеснены на Париж, вошли бы в него в беспорядке; что малейшее содействие парижан превратило бы