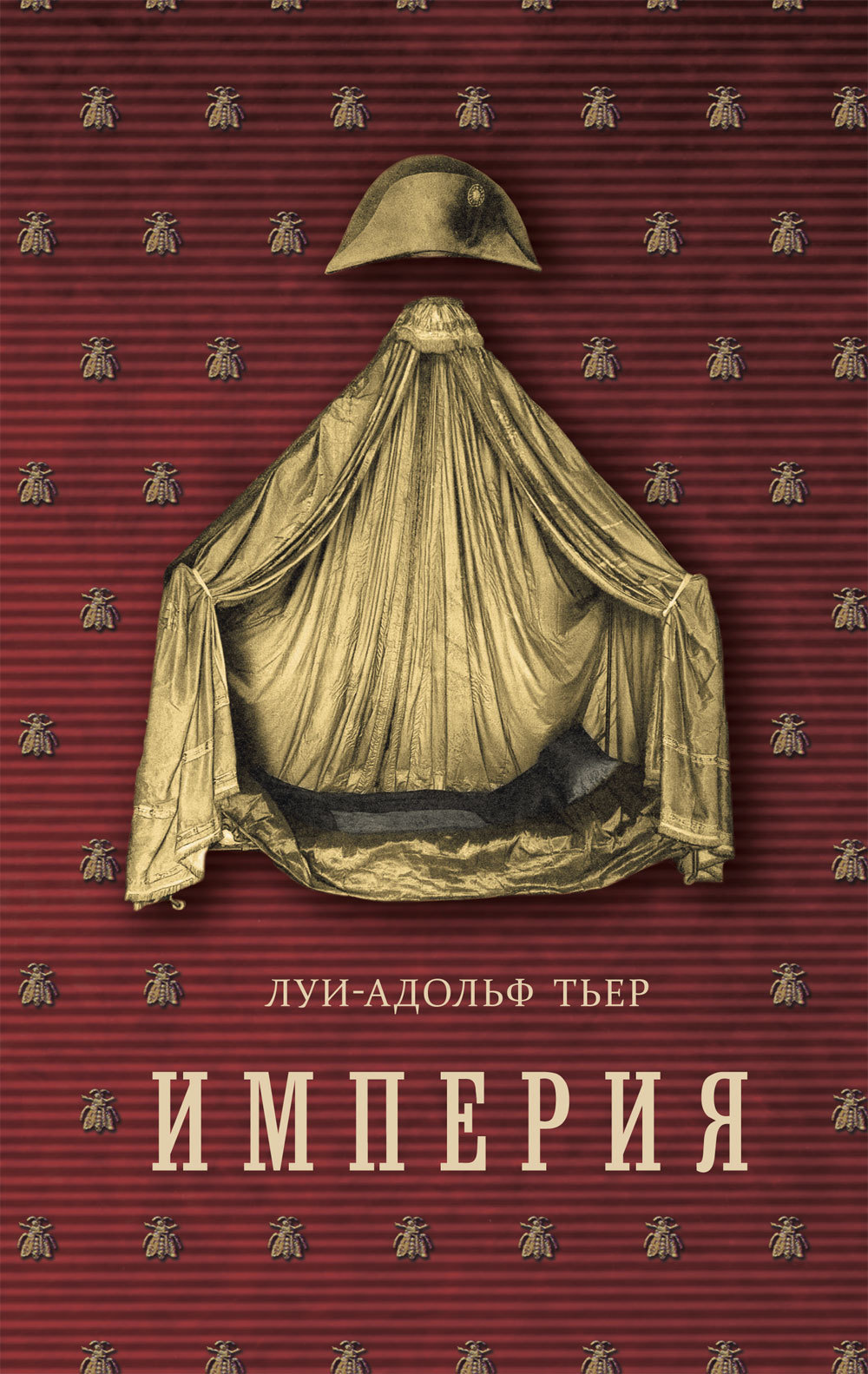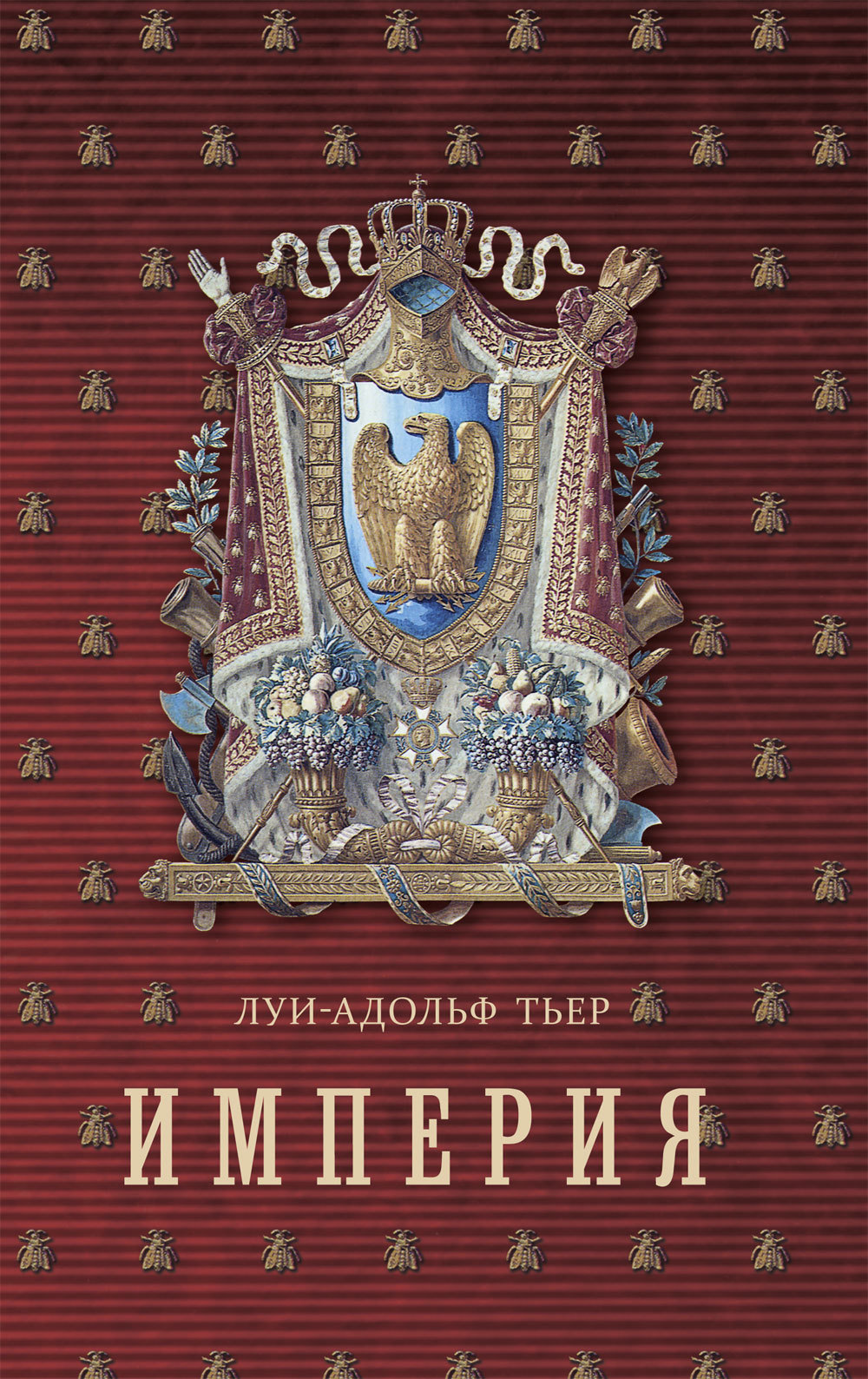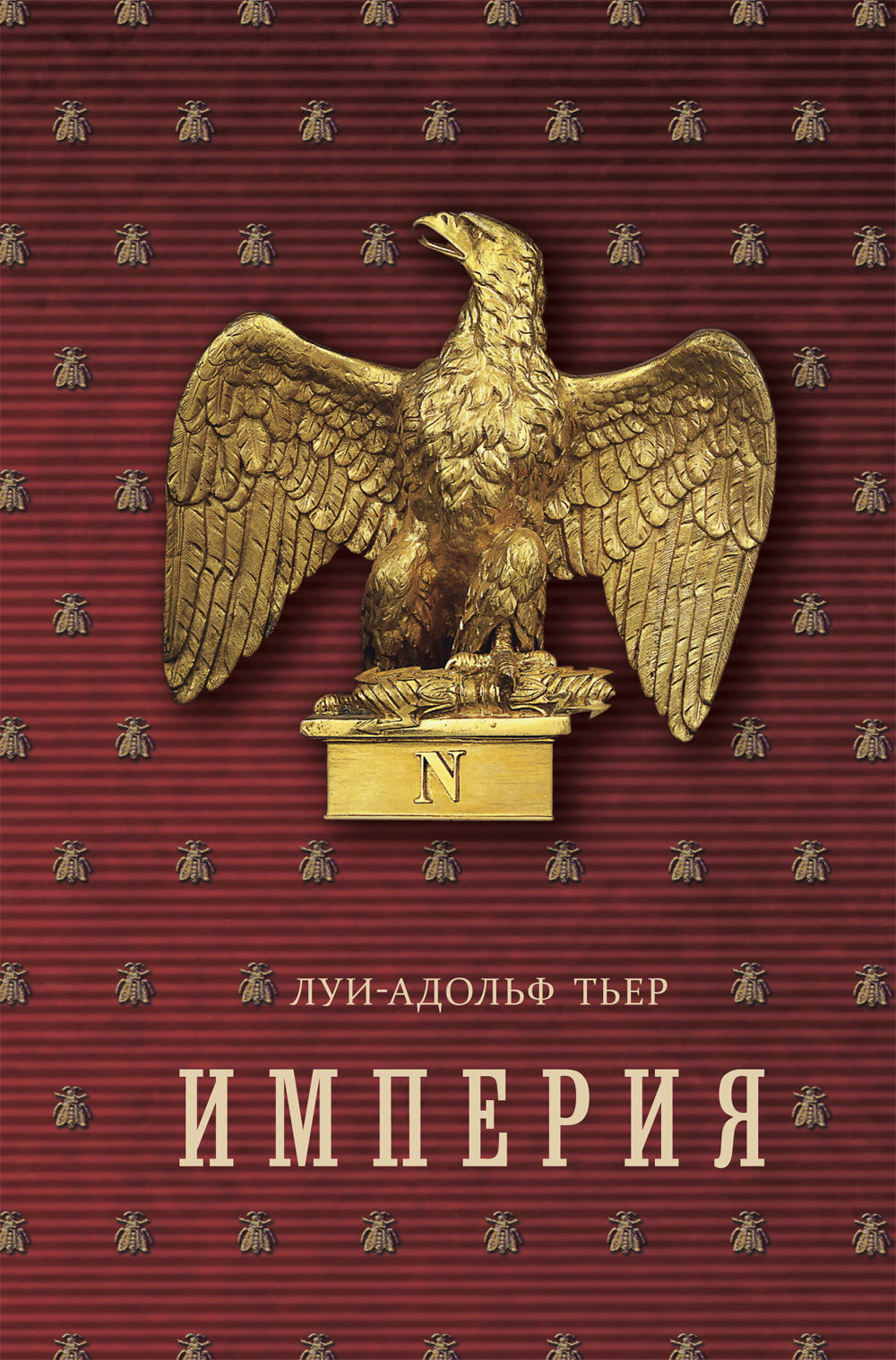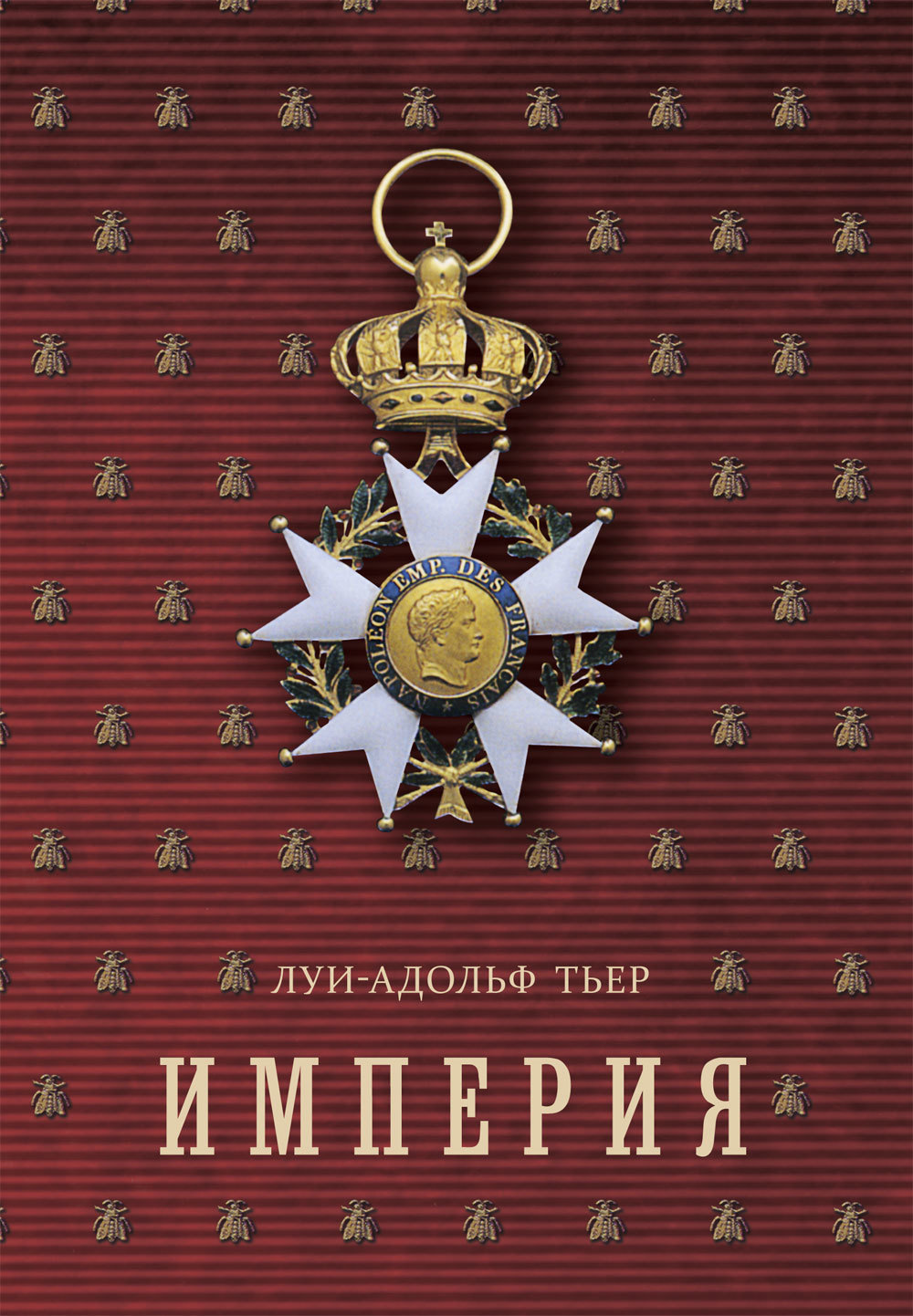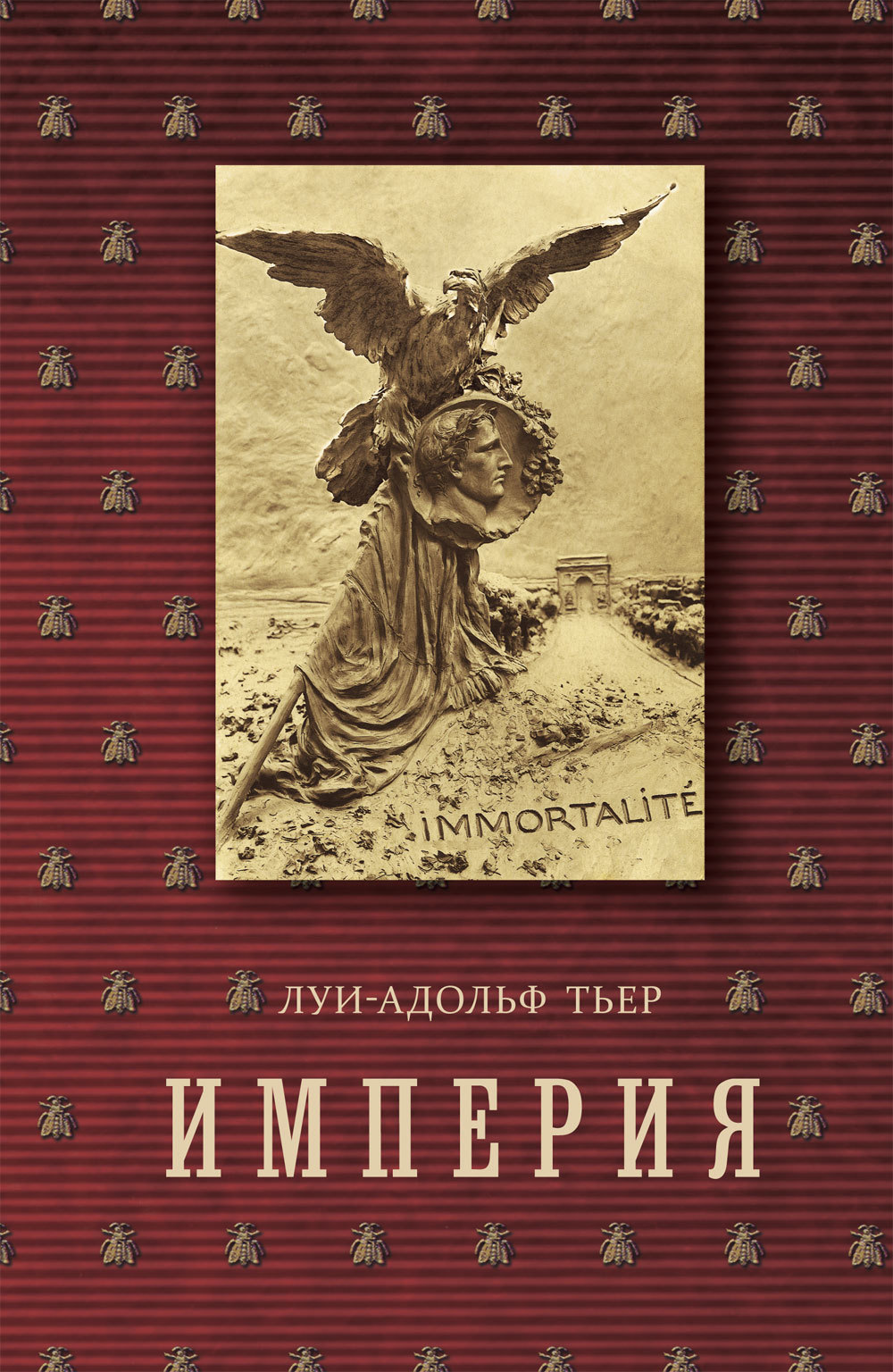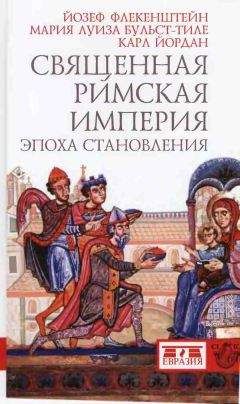беспорядок в разгром; и что Наполеон, последовав за ними или передвинувшись на правый берег Сены на их линию отступления, поставил бы коалицию в положение, из которого ей было бы весьма трудно выйти, имей она даже во главе своих войск того, кого не имела, то есть величайшего из полководцев. Весьма вероятно и то, что после подобного события и при содействии бургундских, шампанских и лотарингских крестьян Наполеон вскоре отвел бы коалицию к Рейну. К тому же, не беспокоясь об опасностях для Парижа, он рассуждал в отношении столицы как русские в отношении Москвы и думал, что нельзя заплатить слишком дорого за уничтожение неприятеля, проникшего в самое сердце Франции.
Невозмутимый в самых тяжелых положениях и всегда тотчас переходивший от составления плана к деталям его исполнения, Наполеон отдал соответствующие приказы. Он построил Мармона и Мортье вдоль реки Эсон: Мармона – на Эсоне, Мортье – в Менси. Он усилил корпус Мармона дивизией Суама, в которой числилось не менее шести тысяч человек; заменил артиллерию Мармона и Мортье, оставшуюся большей частью под стенами Парижа, и предоставил обоим маршалам, благодаря ресурсам своего большого парка, шестьдесят превосходно снаряженных орудий. Он предписал окружить Корбей-Эсон полевыми укреплениями, дабы завладеть его мостом и иметь возможность свободно маневрировать на обоих берегах Сены; собрать в Корбей-Эсоне запасы зерна, в изобилии имевшиеся на правом берегу реки; изготовить на пороховом заводе в Эсоне как можно больше пороха. Он эшелонировал свою кавалерию в направлении Арпажона, дабы вступить в сообщение с Орлеаном, куда призвал жену, сына, братьев и министров. Он выдвинул Молодую гвардию между Шайи и Понтьерри, чтобы припасти место для корпусов Удино, Макдональда и Жерара, которые должны были вскоре прибыть. Наконец, Наполеон вызвал войска, оборонявшие Йонну под началом генерала Алликса, и тем самым принял все меры, чтобы вся его армия сосредоточилась за Эсоном к 4 мая, самому близкому сроку из возможных с учетом расстояния от Сен-Дизье до Фонтенбло.
Ежедневно он проводил смотры присоединявшихся корпусов и позволял им надеяться, не объясняясь открыто, на блестящий реванш за поражение, понесенное под стенами столицы. Гвардия при его появлении разражалась неистовыми криками. Пехотинцы и конники, потрясая ружьями и саблями, добавляли к обычному возгласу «Да здравствует Император!» весьма многозначительные слова «В Париж, в Париж!». Другие армейские корпуса, более молодые и чувствительные к невзгодам, прибывали порой уставшими и опечаленными. Но и они не могли противостоять присутствию Наполеона, виду его мрачного и вдохновенного лица и после недолгого отдыха подхватывали заразительные чувства, пламенным очагом которых оставалась Императорская гвардия. Военачальники, напротив, пребывали в растерянности, и присутствие Наполеона их стесняло и даже раздражало, ничуть не воодушевляя. Они не спорили с тем, что должны исполнить свой долг перед родиной, дав последнее и кровавое сражение, если можно таким образом спасти ее. Но они возмущались идеей давать его в Париже, если Наполеон захочет там сражаться. Их адъютанты и подхалимы вели такие же речи. Войсковые же офицеры говорили только об отмщении за честь оружия и сообщали свои чувства солдатам. И потому, как только показывался Наполеон, со всех сторон раздавались неистовые приветственные крики и проявлялось общее чувство, но не преданности ему лично, а ожесточения против неприятеля и изменников, которые, как говорили, сдали столицу.
Впрочем, повторим, вполне естественно, что перед лицом столь великих событий люди были глубоко взволнованы. Коленкур и застал их в большом волнении: когда в ночь со 2 апреля он появился у дверей Наполеона, бездельники из Главного штаба, охранявшие эти двери, засыпали его вопросами и умоляли сказать императору правду. Коленкура не было нужды умолять. Он просто, без обиняков и без замалчивания, рассказал обо всем, что видел и слышал за время пребывания в Париже. Он не скрыл, что Наполеон сделался предметом яростного общественного гнева, и сообщил о решениях государей в его отношении.
Наполеон принял Коленкура с большой мягкостью и видимой признательностью. Он не казался ни встревоженным, ни удивленным тем, что услышал. Из различных сообщений он уже знал о некоторых фактах, приведенных Коленкуром, и догадался об остальных. Он знал об учреждении временного правительства и даже о низложении, не зная, однако, о его мотивировках. Отправив Коленкура отдыхать, Наполеон погрузился в глубокий сон.
На следующий день, 3 апреля, он провел день в смотрах и приготовлениях, то погружаясь в размышления, то оживляясь, и казался поглощенным обширным планом, к исполнению которого ему не терпелось приступить. Войска переполняли гневом рассказы старых солдат гвардии о том, что недостойные изменники сдали Париж, и они выказывали только одно желание – вырвать столицу из рук предателей. Правда, эти чувства солдат и полковых офицеров не разделяли в штабах. Посланцы из Парижа, проникшие в штабы, заявляли, что Наполеон низложен законным образом и те, кто продолжают служить ему, служат мятежнику; что теперь и сам он не кто иной, как мятежник; что настало время оставить человека, который погубил Францию и погубит и их, и примкнуть к отеческому правительству Бурбонов, расположенному принять их в свои объятия; что только с этим правительством будет достигнут мир, ибо Европа решила покончить с Наполеоном и его сторонниками; что армия сохранит звания, пенсии и заслуги, покинув лагерь, ставший лагерем мятежников, и насладится, наконец, под сенью покровительствовавшего трона, обретенной ею славой; что в противном случае ее окружат четыреста тысяч неприятелей и уничтожат до последнего человека.
Подобные речи легко проникали в усталые и озабоченные души военачальников и вызывали странную ярость не только против политических ошибок Наполеона, слишком реальных и гибельных, но и против его мнимых военных ошибок. Послушать их, так он был простым авантюристом, которому улыбнулась фортуна, и он злоупотреблял ею, пока полностью не исчерпал. В 1813 и 1814 годах он, оказывается, совершал одни промахи и совсем недавно снова ошибся, отправившись в Сен-Дизье за неприятелем, которого следовало искать в Париже. Теперь же, сделавшись от неудач сумасбродным как никогда, он хочет дать последнее сражение и истребить несчастные остатки армии.
«Что ж, пусть будет последнее сражение, – говорили они, – если нужно вернуть честь оружия и спасти Францию! Но ведь Наполеон решил дать его прямо в Париже, видимо, чтобы поубивать столько же парижан, сколько австрийцев, пруссаков и русских!» Утверждение о сражении в Париже вероломно распространяли, чтобы вызвать ненависть к готовившейся последней попытке. С притворным, а порой и искренним ужасом вопрошали: разве не безумец или варвар готов сделать Париж полем битвы и доставить государям-союзникам законный предлог превратить столицу Франции в новую Москву?
На следующий день, то есть утром 4 апреля, Наполеон, казалось, решил действовать и откровенно объяснился на этот счет