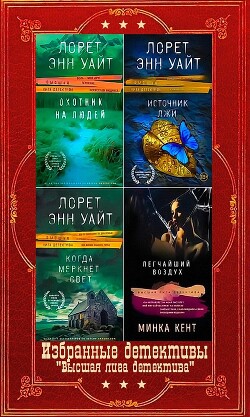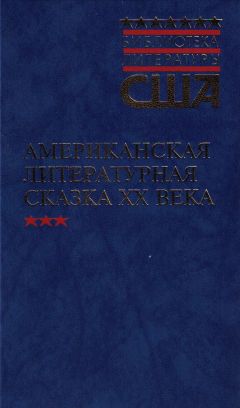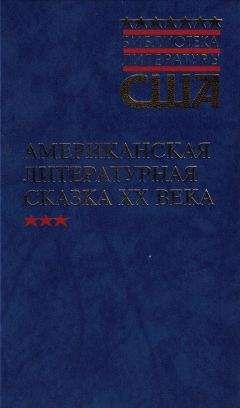(отличной от референтивной, экспрессивной, конативной, фатической и метаязыковой функций). Ведь что есть поэтическое высказывание, как не совершение действия при помощи определенного модуса, манеры или стиля? 104
Теперь давайте вспомним, что Остин рассматривает речевой акт как «иллокутивный»: то есть человек, произнося ту или иную фразу, не только что-то говорит, но и делает; он либо меняет отношение автора высказывания к миру, либо отношение одной части мира к другой, либо отношение мира к самому автору высказывания. И если это так – а многие из комментаторов Остина согласны с этим, – значит мы можем рассматривать дискурсы, одним из которых является «историография», в качестве речевых актов. Эти речевые акты, сообщая что-то о мире, стремятся изменить либо сам мир, либо чье-то отношение к миру, либо отношения между различными вещами в этом мире. Иными словами, при помощи теории речевых актов Остина мы можем представить дискурс или такую совокупность дискурсов, как «историография», в виде праксиса, то есть как действие, которое стремится изменить мир или повлиять на него тем самым способом, при помощи которого оно о нем говорит. (Я думаю, что на этом принципе основывается идея, что суд вправе признать отрицание Холокоста преступлением и в качестве наказания назначить штраф, тюремное заключение или любую другую меру пресечения. Человек, отрицающий Холокост, не только что-то сказал, он также что-то сделал своими словами; то есть своими словами он изменил или попытался изменить отношения в реальном мире так же, как если бы он использовал проклятье или магическое заклинание. Вот почему историки, выступавшие против криминализации отрицания Холокоста, были правы, когда указали на одну упущенную судьями деталь – а именно, что если отрицание факта, установленного историками, является преступлением, то стирается различие между невинной ошибкой и злым умыслом. Если кто-то отрицает Холокост, то уместнее спросить не: «Правда ли это?», – а скорее: «Что побуждает его отрицать это событие?»)
Примером текста, который явно рассказывает о реальных событиях и конкретно о мире Освенцима, но применительно к которому было бы бестактно задавать вопрос: «Правда ли это (с исторический точки зрения)?», – могут служить мемуары Примо Леви. В них рассказывается о последних месяцах Второй мировой войны, проведенных Леви в Освенциме. Книга «Человек ли это?» 105 содержит множество декларативных высказываний, которые предполагают, что их нужно воспринимать как истинные в буквальном смысле слова (то есть как референциально истинные и семантически значимые). Но название мемуаров Леви взято из стихотворения, которое служит эпиграфом ко всей работе и паратекстуальной парадигмой ее предполагаемого смысла-эффекта (meaning-effect). Стихотворение называется «Шма» (еврейская декларация веры в Израиль) и начинается оно с обращения, но не к читателю, а к анонимному «вы»:
Вы, что живете спокойно
В теплых своих жилищах,
Вы, кого дома по вечерам
Ждет горячий ужин и милые лица,
Подумайте, мужчина ли это —
Тот, кто не знает покоя,
Кто работает по колено в грязи,
Кто борется за хлебные крохи,
Кто умирает по слову «да» или «нет»
Подумайте, женщина ли это —
Без волос и без имени,
Без сил на воспоминанья,
С пустыми глазами, с холодным лоном
Точно у зимней лягушки?
Представьте, что все это было:
Заповедую вам эти строки.
Запечатлейте их в сердце,
Твердите их дома, на улице,
Спать ложась, просыпаясь.
Повторяйте их вашим детям.
А не то пусть рухнут ваши дома,
Пусть болезнь одолеет,
Пусть отвернутся от вас ваши чада 106.
Хотя использование стихотворения или молитвы в качестве эпиграфа к мемуарам не является чем-то необычным, это стихотворение призывает читателя задуматься над смыслом жизни в Освенциме, ибо оно рассказывает нам о способности человека унижать себе подобных. «Подумайте», – предлагает вторая строфа стихотворения, не сделало ли унижение, которому подвергались Häftlinge (заключенные) лагерей, их меньше, чем «мужчины» и «женщины». Само предложение «подумать» никак не комментируется в стихотворении, но в двух первых строках следующей строфы читателю говорят: «Представьте (meditate), что все это было: / Заповедую вам (commando) эти строки» 107. Затем следует проклятие в адрес тех, кто не «запечатлеет их в [своем] сердце», ложась спать и просыпаясь, дома или на улице, и не «повторит их [своим] детям».
А не то пусть рухнут ваши дома,
Пусть болезнь одолеет 108,
Пусть отвернутся от вас ваши чада.
Стоит отметить, что это не тот эпиграф, который ожидаешь увидеть в начале «исторического» описания жизни или воспоминаний о каком-то ее эпизоде. Угроза проклятием это не тот речевой акт, который обычно используется в качестве эпиграфа. Такой эпиграф указывает на то, что последующее повествование будет чем угодно, но только не хладнокровным и объективным изложением фактов или документальной хроникой.
Тем не менее, как я попытался продемонстрировать в своем прочтении «Человек ли это?» в журнале Parallax, особая литературность текста Леви, его скорее поэтическая, нежели документальная природа освобождает его от тех вопросов, которые могли бы быть заданы в зале суда 109. Это не означает, что он «вымышленный» и, конечно же, не означает, что он «эстетический». Это лишь означает, что он использует литературные приемы (например, обращается к традиционным литературным или мифологическим сюжетным структурам – в частности, к нисхождению в Ад у Данте), фигуры и принципы лингвистический связи и психологической ассоциации скорее тропологические, чем логические по своей сути.
Леви использует тропы (катахрезу, метонимию, иронию, синекдоху и т. д.) и фигуры (превращая людей в «характеры» и «типы», которые мы находим в мифах, легендах и романах), чтобы описать реальную ситуацию, где ежедневно приходится делать выбор и принимать решения о жизни и смерти. Во многих отношениях текст Леви соответствует жанровым принципам исповеди, ведь он, как и другие выжившие, ищет оправдания.
Но, конечно, дело не только в искуплении грехов самого Леви. Его текст – это описание того, на что похожи жизнь и смерть в концентрационном лагере Освенцим. Это не воображаемый мир, однако едва ли можно описать его, не используя поэтические средства. Я неоднократно отмечал, что Леви не сообщает никакой фактической информации, которую нельзя было бы отыскать в справочнике. Вместо того, чтобы рассказывать нам о том, «что произошло», он рассказывает о том, «как это можно почувствовать», насколько унизительно это – «выживать в Освенциме».
Находимся ли мы тогда в области вымысла?
Едва ли.
В