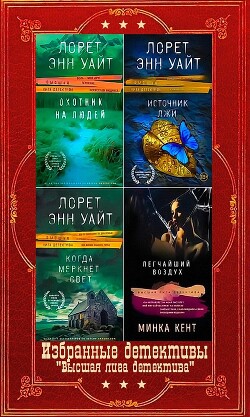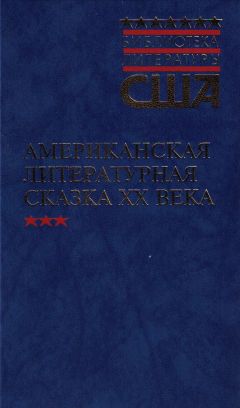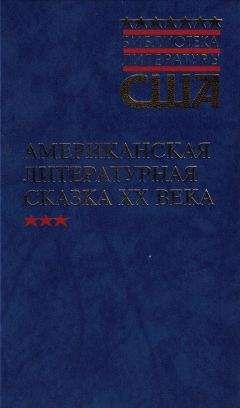что все эти художественные произведения говорят
о реальном историческом событии, Холокосте, многие историки не только рассматривают их как «неисторические», но и полагают, что они «фикционализируют» и «эстетизируют» событие, которое по своей природе обладает моральным правом на строго правдивое изложение 97.
И именно здесь я хочу поставить под сомнение допустимость, уместность, тактичность и адекватность вопроса: «Правда ли это?» – в отношении всех дискурсов, отсылающих к реальным историческим событиям в ходе их разработки. Мой ответ будет примерно следующим: да, всегда уместно задавать вопрос: «Правда ли это?» – в отношении любого описания прошлого, заявляющего о себе как об историческом описании. Однако я считаю, что вопрос: «Правда ли это?» – вторичен для дискурсов, отсылающих к реальному миру (прошлого или настоящего), но недекларативных по своему модусу. Это прежде всего касается художественных (словесных, музыкальных и визуальных) репрезентаций реального мира (прошлого или настоящем), которые в своем современном виде, как правило, избирают модусы, отличные от простой декларации – например, вопросительный, повелительный и сослагательный 98.
Поставленный мной вопрос: «В каких случаях спрашивать, правда ли это, не имеет смысла?» – часто обсуждается как проблема моральности говорения правды. Например, в каких случаях правильнее или предпочтительнее соврать, или, иными словами, могут ли обстоятельства сложиться таким образом, что будет «лучше» соврать, чем сказать правду? Этот вопрос меня не интересует. Меня интересует, следует ли отказаться от вопроса: «Правда это или ложь?» – по отношению к определенному виду дискурса, парадигмой которого является свидетельская литература и примером которого могут служить модернистские литературные произведения о Холокосте 99. Этот вопрос интересует меня по причине убежденности некоторых историков в том, что история и все утверждения об истории или прошлом должны «говорить правду». Более того, принцип историографических утверждений заключается в том, что они не должны «лгать», «искажать», а также отрицать, упускать, отвергать и дезавуировать те «факты», которые были выявлены в «реальности» прошлого. Все это довольно плохо, согласно моральной эпистемологии, лежащей в основании значительной части современных размышлений об историческом письме – но намного, намного хуже «фикционализировать» историю, преподнося «вымышленные» вещи как «факты», превращая «факты» в вымысел или смешивая факты и вымысел подобно таким низким жанрам, как исторический роман, историческое кино или в так называемой докудраме (предполагается, что она представляет собой «драматизацию» некоей исторической реальности). Такого рода преступление, грех или проступок сродни возмутительной «мифологизации» реальности или «метаисторическому» подходу к исторической действительности в духе Гегеля, Маркса, Ницше, Шпенглера, Тойнби и других.
Я считаю, что «дискурс» Холокоста включает в себя не только упомянутые мной вопросы, но также истории или исторические обработки Холокоста, поскольку они, пытаясь отвечать на сугубо «фактические» вопросы, затрагивают также вопросы теории: начиная с того момент, когда историк задается вопросом: «Что это?», – и заканчиваем тем моментом, когда в уже опубликованной книге или статье мы встречаем утверждение: «Произошло такое-то событие». Теоретический вопрос: «Что я вижу перед собой?» – относится к тому же дискурсу, что и ответ, представленный в виде набора фактов, которые складываются в утверждение: «То, что вы видите перед собой, это Холокост, геноцид, истребление и другие подобные преступления». И поскольку теоретический вопрос: «Что это?» – относится к тому же дискурсу, что и ответ: «Это Х», – мы не можем с полным основанием (то есть без тавтологии в логике) указать на ту или иную историю Холокоста, написанную тем или иным историком, как на пример «подобающего» изложения событий.
«Что значит подобающее?» – это одновременно вопрос фактический («Как оно выглядит?» или «Каковы его атрибуты?» «Что оно сделало?») и вопрос нравственный («Какова его „природа“, „сущность“, „суть“?», – применительно к которой мы можем говорить о «правильности» вещи, то есть о ее «самотождественности» своему ходу, динамике, желанию, суждению, действию и т. д.). Аутентичность (обстоятельства, при которых вещь всегда кажется тем, чем она является, или всегда является тем, чем она кажется) можно также определить как совершение правильных действий в правильное время в правильном месте с правильными задачами, предметом и целью и с использованием правильных средств для совершения именно этого действия и никакого иного. Трудность жить в соответствии с этим идеалом аутентичности обнаруживается в ситуациях, когда речь идет о «природе» вещи, которая оценивается с точки зрения ее аутентичности или тождественности самой себе.
Таким образом, если в подтверждение определенного представления о том, чем является Холокост, чем он мог бы или должен считаться, я привожу конкретную репрезентацию Холокоста как пример того, что нужно понимать под аутентичной и правильной его демонстрацией (presentation), мое суждение об этом должно восприниматься как ассерторическое, категорическое или проблематическое, то есть как суждение в модусе гипотезы, императива или вопроса. Если это ассерторическое суждение, тогда этот пример можно использовать в качестве модели, которая производит гипотезы, требующие проверки в виде расспроса. Если это категорическое суждение, тогда этот пример необходимо рассматривать как парадигму или исходный образец, определяющий не только вопросы, которые следует обращать к предмету изучения, но также моральную позицию, подобающую для данного исследования. Наконец, проблематический пример представляет собой апорию, то есть затруднение при решении, считать ли данный пример категорическим или ассерторическим. Здесь я следую за размышлениями Канта в его «Основоположениях метафизики нравов» 100.
Кант считал, что в случае с этическими вопросами мы не можем законно пользоваться примером, чтобы предложить искомый принцип, с помощью которого можно «подобающим образом» направлять исследование, поскольку этот принцип нужно искать в операциях разума, очищенного как от нравственных, так и от эстетических «интересов». Но если вопрос в том, что считать подобающим, – а это вопрос нравственный, – чистый (или научный) разум не может предложить нам принцип для определения «того, что подобает». Если я говорю о том, что следовало бы делать при создании репрезентации такого события, как Холокост, относясь с должным вниманием к его истинной «природе», и при этом рекомендую один способ рассмотрения данного феномена, отдавая ему предпочтение перед другим, мое утверждение стоит воспринимать как своего рода рекомендацию или императив. Например: «Попробуйте воспользоваться данным способом изложения истории Холокоста (например, подходом Кристофера Браунинга, а не Дэниэла Голдхагена)» – или же: «Пишите историю Холокоста только так и никак иначе!»
Ни в одном из этих случаев вопрос: «Правда ли это?» – не будет правильной реакцией на высказывания вроде: «Попробуйте это!» или «Сделайте это!». Правда ли, что я должен попробовать написать свою историю Холокоста, используя модель Х? Или же: правда ли, что я должен не только писать историю Холокоста определенным образом, но также излагать ее в определенном модусе (под этим я подразумеваю особую почтительность, благоговение и внимание по отношению к предмету исследования)? Ведь вопрос: