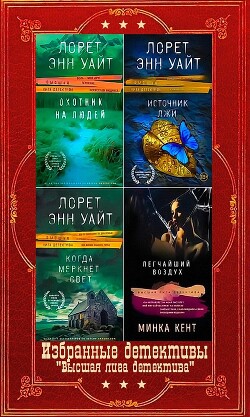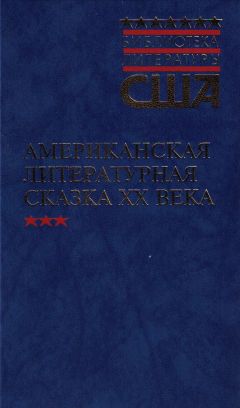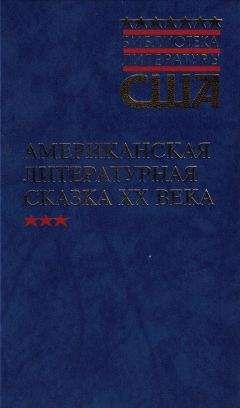событием в истории Европы, создавало возможность для радикального пересмотра этой истории с тем, чтобы по достоинству оценить то проникновение в
реальную природу европейской цивилизации, которое это событие по-видимому позволяло сделать. И в самом деле, «экстремальный», если не уникальный характер Холокоста поднял важнейшие вопросы о теоретических предпосылках, лежащих в основании современных западных представлений об «истории», методологиях, используемых современными профессиональными историками для познания исторического прошлого, а также протоколах и техниках, используемых для предъявления исторической реальности в их дискурсах.
Эти вопросы стали еще более затруднительными из‐за того, что современные медиа сделали возможной запись и распространение большого числа личных свидетельств людей, переживших Холокост. Более того, многие «свидетели» этого события теперь могли требовать, чтобы их воспоминания были учтены в «официальной» или «доксологической» хронике, создаваемой историками на основе изучения доступных им письменных и вещественных источников. Кроме того, в то время как историки в обыкновенном для них черепашьем темпе занимались реконструкцией того, что на самом деле произошло в ходе «Окончательного решения еврейского вопроса» и/или Холокоста, область исследований Холокоста (Holocaust studies) наводнило множество мемуаров, автобиографий, романов, пьес, фильмов, стихотворений и документальных фильмов. Многие историки опасались, что появление этих произведений приведет к эстетизации, релятивизации, фикционализации, превращению в китч и мифологизацию того, что было бесспорным фактом (или совокупностью фактов) и что, следовательно, могло быть «надлежащим образом» изучено только при помощи более-менее научных методов. С точки зрения многих историков это означало, что при рассмотрении любой репрезентации «Окончательного решения» или Холокоста, первый и самый главный вопрос, который необходимо задать, звучит следующим образом: «Правда ли это?». И если ответ на этот вопрос оказывается отрицательным или содержит некоторую двусмысленность, то данная репрезентация должна быть отвергнута не только как искажающая реальность, но, учитывая причиненные жертвам Холокоста страдания, как ущемляющая их моральное право на правдивое и точное описание пережитых ими событий.
Но как насчет огромного массива свидетельств выживших? Должны ли они соответствовать тому же критерию правдивости, который предъявляется повествованию историка о том или ином событии прошлого? Безусловно, мы должны требовать, чтобы свидетель, рассказывающий о своем опыте, по крайней мере, стремился говорить правду, но является ли соблюдение корреспондентной теории истины тем, что интересует нас в таких свидетельствах главным образом? Очевидно, это должно интересовать нас в первую очередь в случае, когда свидетельские показания даются в суде, где основная цель – установить, что произошло и кто несет за это ответственность. Но когда важно выразить, каково это – быть подвергнутым такому обращению, которое испытали на себе жертвы Холокоста, то кажется неуместным требовать, чтобы эти свидетельства соответствовали корреспондентному идеалу истинности. Даже когерентная теория истины, кажется, не слишком подошла бы для оценки весомости свидетельства жертвы. В этом случае вопрос: «Правда ли это?» – может быть только «риторическим».
Позже я вернусь к статусу свидетельства жертвы. Сейчас же я хочу продолжить рассуждение об уместности вопроса: «Правда ли это?» – при оценке художественных и, в особенности, литературных трактовок Холокоста. Конечно, художественное и литературное обхождение с Холокостом представляет проблему для историков, наделяющих это событие своего рода сакральным статусом. Особенно если «художественное» отождествляется с «эстетическим», а «литература» – с «вымыслом» (fiction). Я хочу поставить под вопрос необходимость этих двух типов отождествления.
Если за Холокостом признается онтологический статус, который запрещал бы его образную репрезентацию, и единственное, что мы можем делать – это благоговеть и чтить память жертв, то очевидно, что любое художественное или литературное обращение с Холокостом следует считать своего рода богохульством. Такое отношение заведомо исключило бы любую историографическую обработку Холокоста в той мере, в какой она могла бы использовать эстетические или фикциональные стратегии в составе ее демонстрации (presentation). Но, по крайней мере, на мой взгляд, именно это и делает нарративное обращение с Холокостом или отдельными его эпизодами. Именно по этой причине философ (и мой дорогой друг) Берел Ланг рекомендует отказаться от любых попыток нарративизировать Холокост и вместо этого предлагает остановиться на хронике – простом перечислении фактов в порядке их происшествия, установленном путем буквального прочтения документальных источников.
Берел Ланг совершенно прав, когда рассматривает нарративы и нарративизацию или, проще говоря, рассказывание историй не как достоверное отображение реального хода событий, а скорее, как «опасное дополнение» к их строго правдивому описанию 95. Для него изложение событий Холокоста в форме рассказа – это еще один пример фигурации, которая жертвует буквальным описанием событий в угоду эстетической прихоти или игре. Эстетическая обработка Холокоста, по его мнению, подчиняет правду факта эгоистичному стремлению художника продемонстрировать свою искусность и двусмысленному воздействию риторической и поэтической фигурации. Здесь Берел Ланг занимает сторону Карло Гинзбурга с его попытками защитить правду историка от разъедающего воздействия скептицизма и релятивизма. Гинзбург выступает против релятивизма, поскольку тот отвергает возможность существования одного-единственного верного взгляда на мир, и против скептицизма, поскольку тот, по его мнению, исключает возможность существования истины как таковой. Плюрализм и скептицизм поощряют индифферентное отношение к истине и такое отношение к ценностям, которое можно обобщить фразой «всякая точка зрения имеет право на существование» 96. Ланг выступает против эстетизации и фикционализации событий, обладающих таким моральным весом и онтологическим содержанием, как Холокост.
В своем докладе на конференции «Окончательное решение и границы репрезентации», организованной Солом Фридлендером и Вулфом Канштайнером в Калифорнийском университете в Лос-Анджелесе в 1990 году, я придерживался позиции, согласно которой проблема репрезентации Холокоста не должна осмысляться в традиционных (относящихся к XIX веку) категориях – таких как реализм, история, репрезентация, эстетика, вымысел, идеология, дискурс, повествование и миметическая концепция описания. Само явление Холокоста сделало очевидным то, что новая реальность, заявившая о себе во Второй мировой войне, в сочетании с модернистским взглядом на природу дискурса, репрезентации, истории и самого искусства поставила под сомнение довоенные представления о них, если не продемонстрировала их полную несостоятельность.
Я не собираюсь пересказывать соображения, изложенные мной тогда. Вместо этого я попытаюсь разобраться с тем, как представлять (to present) Холокост в качестве исторического феномена – «новый», если не сказать «аномальный» характер которого в истории современной Европы я охотно признаю, – принимая во внимание все последствия вопроса: «Правда ли это?», – заданного применительно ко всякой репрезентации Холокоста в историографии, литературе, кино, фотографии, философии, социальной науке и т. д.
Это касается и таких откровенно художественных версий свидетельств жертв, как мемуары Примо Леви «Человек ли это?» (Se questo è un uomo), комикс Арта Шпигельмана «Маус» и фильмы «Ночной портье» (Il portiere di notte) Лилианы Кавани, «Список Шиндлера» (Schindler’s List) Стивена Спилберга и «Жизнь прекрасна» (La vita è bella) Роберто Бениньи. Хотя очевидно то,