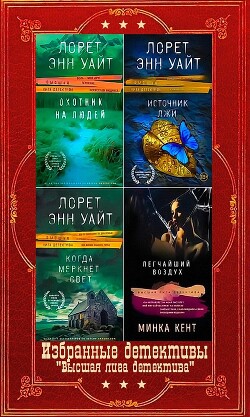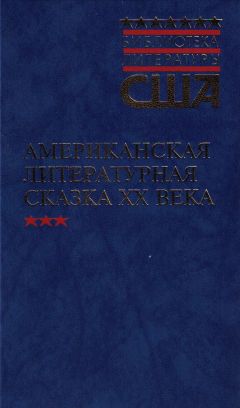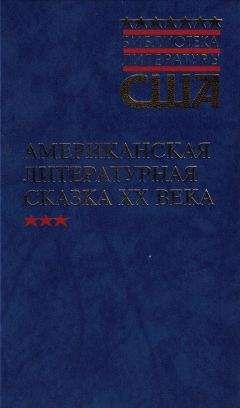– иными словами, быть настоящими родителями – считалось столь же недопустимым, как и поднимать вопрос о свободе. Защита прав чернокожих родителей в тогдашних условиях представлялась с точки зрения логики узаконенного рабства весьма странной и абсолютно преступной.
Затем Тони Моррисон вспоминает, что до этого ее внимание привлекла «историческая» Маргарет Гарнер, суд над которой стал cause célèbre 92в кампании против закона о беглых рабах, который предусматривал розыск и возвращение беглецов их хозяевам. Ее здравомыслие и полное отсутствие раскаяния привлекло внимание аболиционистов и газет. Она была целеустремленной женщиной и, судя по ее выступлениям в суде, обладала интеллектом, яростью и готовностью рискнуть всем ради свободы 93.
Перед Моррисон встал вопрос, как использовать факты из биографии Маргарет Гарнер для того, чтобы понять этические проблемы, с которыми в то время сталкивалась черная женщина в ее положении 94. Далее она проводит различие между «Маргарет Гарнер как исторической личностью» и тем, что я бы назвал «поэтической» Маргарет Гарнер, то есть живой женщиной из плоти и крови, оказавшейся способной на такие трагические свершения, которые традиционно предписываются только архетипическим фигурам в мифологии, религии и искусстве. Так, Моррисон пишет: «Маргарет Гарнер как историческая личность, безусловно, заслуживает восхищения, но для романиста ее образ имеет определенные ограничения. Для моих литературных целей, для моего замысла здесь явно не хватало пространства» (курсив мой. – Х. У.).
На мой взгляд, это утверждение означает, что детали истории Маргарет Гарнер, способные пролить свет и служить стимулом для этически ответственных действий в настоящем, невозможно было правдиво изобразить в строго историологической манере. Она просто не позволяла необходимым образом задокументировать события. Поэтому Моррисон идет другим путем, путем изобретения:
И я решила изобрести мысли Маргарет, стараясь максимально точно соотнести их с исторически верным контекстом, который, однако, будет не столь точно соответствовать реальным фактам, чтобы мой рассказ строго совпадал со всевозможными современными публикациями и исследованиями, посвященными теме свободы и ответственности женщин, а также их «месту» в обществе (курсив мой. – Х. У.).
«Исторически верным контекстом, который, однако, будет не столь точно соответствовать реальным фактам…» – Я бы переформулировал следующим образом: «верным по своей исторической сущности контекстом, который, однако, будет не столь точно соответствовать реальным фактам». Ведь как иначе описание «мыслей» настоящего человека из прошлого может одновременно быть «исторически верными» и «не столь точно соответствовать реальным фактам»? И, что еще более важно, чем является или чем может быть «историческая сущность» человеческих «мыслей»?
Здесь мы подходим к настоящей проблеме, с которой сталкиваемся при попытке теоретизировать отношения между историческим прошлым и его практическим аналогом. Ведь наш интерес к практическому прошлому должен вывести нас за пределы «фактов» в том виде, в каком они обычно понимаются историологической мыслью. В самом деле, это должно вывести нас за рамки представления о том, что факт, чем бы он ни был, определяется посредством его логического противопоставления «вымыслу» (fiction), где под вымыслом понимается воображаемая вещь или продукт воображения. Означает ли это, что Тони Моррисон, изобретая мысли Маргарет Гарнер, по сути «фикционализирует» их?
Моррисон сглаживает это утверждение следующим образом: «Моя героиня, думала я, станет воплощением того, чем кончается позорное одобрение обществом подобного гнета; она возьмет на себя грех детоубийства, при этом требуя собственной свободы» (курсив мой. – Х. У.). Исторической Маргарет Гарнер предстоит превратиться в «фигуру», известную по архетипу Медеи, героини, которая безоговорочно принимает позор и ужас своего поступка; берет на себя грех детоубийства и, таким образом, требует собственной свободы. И, хотя Моррисон не придает этому особого значения, выходит, что в характеристике ее героини нет ничего противоречащего тому, что известно об «исторической Маргарет Гарнер». Что это за вид вымысла, который никоим образом не противоречит известным фактам?
Предположим, что в данном случае противопоставление факта и вымысла скорее затрудняет понимание, нежели способствует ему. Я уже утверждал в другом месте, что когда речь идет о тех аспектах реальности, которые заставляют сомневаться в ней или даже в возможности наших идеалов человечности – как в случае с американским рабством или Холокостом – писатель, заинтересованный в прямом столкновении с этическими проблемами (вопрос: «Что я должен делать?»), связанными с рассмотрением таких явлений, вполне может взять на себя роль исполнителя на письме того действия, которое преподносится в виде событие. В случае с Тони Моррисон это означает безоговорочное принятие ответственности за изобретение мыслей своей героини, осознание последствий дерзостной попытки реконструировать историю, которая вызывает недоверие, и, таким образом, утверждение своей свободы обращаться с прошлым так, чтобы оно было созвучно ее ситуации в настоящем. Ибо, как она справедливо указывает, «область» «рабства» не только «влекла <…> невероятной значимостью и одновременно с этим пугала отсутствием проторенных дорог», но также «отвратительна», «скрыта» и «преднамеренно зарыта» и – я бы добавил – не в последнюю очередь по вине историков, которые ограничиваются изложением фактов. Это действительно означало «поселиться на кладбище с весьма красноречивыми призраками», которых человек, обладающий поэтическим воображением, слышит так, как историограф не может себе позволить.
Что (все-таки) подобает говорить о Холокосте?
При каких обстоятельствах будет грубо, бестактно или просто неуместно спросить: «Правда ли это?», – когда дело касается дискурса, который явным образом отсылает к реальному миру прошлого, настоящего или будущего? И если имеются определенные высказывания (выражения, намеки, предположения, заявления, предложения или утверждения) о реальном мире, применительно к которым вопрос: «Правда ли это?» – оказывается неуместным, то какого рода отклики (если они вообще допустимы) на подобные высказывания были бы уместны?
Я задаю эти вопросы в контексте продолжающейся дискуссии о том, что составляет «подобающую» репрезентацию Холокоста – события столь травматичного, что когда его неопровержимые доказательства стали достоянием гласности, многие люди и общественные группы поначалу отнеслись к ним с недоверием. На смену недоверию пришло негодование: как «современная», «просвещенная», «христианская» и «гуманистическая» немецкая нация могла предать идеалы европейской цивилизации, достойным представителем которой она являлась? Но даже после этого вопрос о том, что означает «Окончательное решение еврейского вопроса», что это событие говорит о европейских ценностях как таковых, о современности, Германии, «евреях», иудаизме и «Европе», оставался насущным и казался неразрешимым. Для историков – профессиональных хранителей западного исторического сознания, культивирующих пресловутую историческую науку, – главный вопрос, поставленный Холокостом, заключался в его сущности как специфически «исторического» события, в том, как его можно вписать, включить в нормативный нарратив европейской истории и наилучшим образом к нему приспособить. В то же время ощущение, что Холокост был «необычным», «новым» и, возможно, даже «уникальным»