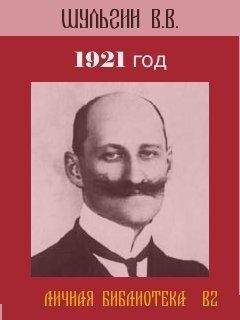Кроме — законов природы. Закон же природы таков, что это великолепное зрелище — между Европой и Азией — действует на нас, русских, ничуть не меньше, чем на французов и англичан, которые присвоили себе этот пролив… А может быть, и больше…
“Проливы”…
“Как много в этом слове для сердца русского слилось”.
* * *
Как, в сущности, это все мало продумано! На что нам эти проливы? Что бы мы с ними делали? И как бы мы их “удержали”?
Пришлось бы занять Константинополь, то есть навязать себе вражду со всем мусульманским миром. К чему? В России двадцать миллионов мусульман, мы с ними очень хорошо уживались… Так нужно поссориться?
Надо идти назад. “Турция для турок” — вот заповедь для будущей русской политики.
* * *
Вот она, Ай-София… красивая пирамидообразная громада, — тяжелая среди ажурного стремления минаретов…
На ней нет креста…
Но ведь крест нельзя водружать мечом. Христианство не ислам.
* * *
Не будучи философом, философствуешь, когда “мысль парит” над этим городом. Вспоминается: “по делам их узнаете их”…
* * *
Вот — “дела”.
Когда сто тысяч русских упало на Константинополь… жалкие, голодные, больные, с бледными женщинами и умирающими детьми…
Кто оказался больше христианами по отношению к ним? Христианская ли Пера и Галата, одуревшая от фокстрота, или этот исламийский Стамбул, сгрудившийся около древней Ай-Софии?
* * *
“По делам их узнаете их”… Увенчанный полумесяцем Стамбул на заре XX столетия, может быть, ближе к Христу, чем оскверняющая крест Пера и Галата…
* * *
Эти бессвязные мысли бежали. На азиатском берегу, высоко на горе, было очень большое здание — желтое, но казавшееся красным от солнца. Я насчитал несколько сотен окон, у меня зарябило в глазах и стало тошнить…
Это от голода. Мы не ели уже двое суток. И совершенно неизвестно, сколько еще времени французы будут заставлять нас любоваться красотами Constant… натощак…
Что делать?
* * *
Что делать?.. Этот вопрос висит над этим необъятным городом. Что делать с ним, с Константинополем?..
О Константинополе, впрочем, можно было бы и не думать: пока он вне нашей компетенции.
Но я знаю, что об этом все же думают некоторые русские и довольно оригинально: они мечтают, чтобы его “взял” Врангель и “отдал” Кемалю.
* * *
Но не в этом дело. Не нам заниматься теперь такими вопросами.
Что делать нам самим, русским, этой мятущейся стихии, словно снегом запорошившей берега Босфора. Этот вопрос висит над каждым из нас и над всеми вместе.
Тревогой и страданием вычерчены эти слова там, на голубом небе:
— Что делать?
* * *
Те, что там, в Галлиполи, или на Лемносе, или в Четалджи, — словом, “в армии” — те знают.
Они лишили себя свободы и тем освободились… Освободились от забот.
У них один долг и одна обязанность — повиноваться…
Они избрали благой путь: они веруют.
Они верят, что единая воля и единый разум лучше выберут путь, чем беспорядочные усилия разрозненной массы… Они верят, что этот путь, намеченный их Главнокомандующим, они, армия, проложат своим тяжелым весом, потому что все вместе — они сила, они — масса, они — глыба…
Им трудно, но им беззаботно. Все заботы о будущем переложены на маленькую яхту, которая приютилась вот там, где-то за поворотом Босфора.
Выдержит ли “Лукулл” этот груз?..
* * *
Но остальные?.. Не галлиполийцы, не лемносцы, не армия — словом, все те, кто не захотели или не могут быть в рядах.
Над ними неотступным вопросом висит “что делать?” Над каждой русской снежинкой, мятущейся по Константинополю, вьется неотступным москитом этот жалящий вопрос…
* * *
Я знаю, что делать! По крайней мере, что делать — мне, в данную минуту!
Кругом парохода снуют “кордаши”, босфорские лодочники. Один болтает у трапа. Надо воспользоваться этим… Довольно в самом деле, “попили французы нашей кровушки”… Сбегу на берег!
* * *
Сбежал… на сегодня вопрос, что делать, разрешен: надо найти себе ночлег и приют в этой огромной абракадабре, которая называется Константинополем, другими словами, надо прибиться к какому-нибудь из друзей…
“Я живу в посольстве”. Это пишется гордо, но выговаривается несколько иначе. Точнее — я живу у бывшего члена Государственной Думы Н. И. Антонова, который в свою очередь живет у генерала Мельгунова, а генерал Мельгунов живет у генерала Половцова, а генерал Половцов, собственно говоря, живет в посольстве, получив разрешение от посла А. А. Нератова… Но теперь это так принято — “дедка за репку, бабка за дедку”…
Итак, послы и посольства существуют… нет только державы, от которой они посольствуют…
* * *
Спал я очень хорошо. Без простыни и подушки, но теперь это тоже в высшей степени принято.
У меня, слава Богу, никаких вещей нет. И это тоже “очень прилично”… Неприлично иметь что-нибудь.
* * *
Утром я был еще в постели. Генерал Мельгунов уже встал и брился, а Николай Иванович одевался, когда пришел А. С.
Он уселся на диване, в пальто, держа тросточку в руках, и завязался один из тех разговоров, которые сейчас ведутся.
Он: Я глубоко уважаю барона Врангеля! Но послушай! Его антураж! Это что-то невозможное! Эти люди! Я не знаю! Может быть, я ничего не понимаю… Но это они погубили, они! Когда вы делали “правыми руками левую политику”…
Я: Отчего ты говоришь “вы”, а не “мы”?
Он: Потому что я в этом никакого участия не принимал! Извини, пожалуйста!..
Я: Но ведь и я тоже. И все-таки я думаю, что надо говорить “мы”.
Он: Это почему?
Я: Потому что все качества, которые были причиной… они наши общие… И если бы ты и я принимали участие… то, может быть, было бы только хуже.
Он: Ты так думаешь?
Я: Я так думаю… И очень давно так думаю… Потому что… Потому что все мы очень хорошие люди, очень милые, очень деликатные, очень воспитанные, но властвовать мы не можем… Старый режим пал не почему иному, как потому, что мы уже не могли быть властителями! Конечно! Разве ты не замечал, разве ты не видел?.. Вот, например, в прошлый раз, когда мы собрались как-то… ну, комитет какой-то…
Он: Неудачно! Это верно! Это не то!.. да, ты прав! Это не то!
Я: Это не то, потому что мы не те… Не те, что надо…
Он: Ну, допустим! Допустим, ты прав! Какая же причина?
Я: Причина простая: греческое слово “abulia”… Это значит — отсутствие воли… атрофировалась воля. Что такое знаменитая русская застенчивость? Это и есть отсутствие воли… Волевой человек не может быть застенчивым. Волевой человек постоянно принимает решения… Постоянно… В каждую данную минуту… сказать слово… вмешаться… потребовать… настоять на своем… А застенчивый — жмется под стенку…
Он: Что же мы, трусы, по-твоему?
Я: Ничего подобного! Наоборот! Застенчивость очень легко совмещается с героизмом. Я много видел таких, которые были удивительны под пулеметами и крайне робкими в обращении с людьми… Много таких русских, которые герои в смертном бою, а в обыкновенной жизни — подстеночники…
Николай Иванович: Это верно. Это правильное наблюдение. По-видимому, надо признать, что ежедневное, ежеминутное напряжение воли — это нечто иное, чем вспышки, порыв. Порыв — это даже отрицание воли. Порыв нужен тому, у кого нет воли…
Я: Государь наш был болен тем же. Он умер героически.
Он: Несомненно! Еще бы!
Я: Он был непреклонен в основном, там, где требовался героизм. В Его решении не покориться немцам. И это Он запечатлел героической смертью. Но в обыденной жизни… Разве все не знают, что Он никогда никому не сказал неприятности в глаза… Он был застенчив. Он не мог раскричаться, рассердиться, заставить дрожать перед собой. Он был застенчив на троне. Это его и погубило. А с ним и нас… И мы такие же, как наш Государь. Умирать? Сколько угодно! Но без всякой церемонии убрать от государственного дела такого-то, не обращая внимания на то, что он “наш милейший и симпатичнейший”, — на это мы не способны. Властители — иные. Они ступают по людям… Они побеждают. А мы? Мы умираем…
* * *
А. С. задумался на минутку. Потом: