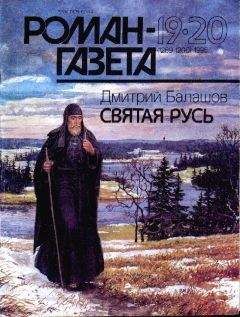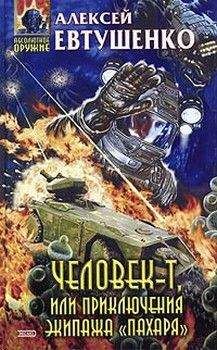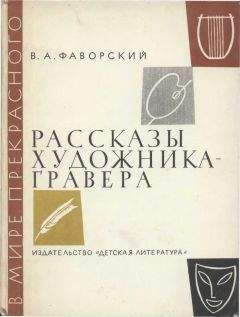Вот среди двенадцати сыновей и предстояло ему выбрать наследника, ибо в литовском княжеском доме (так повелось с Гедимина) наследника назначал сам прежний государь. И из всей этой дюжины избрал Ольгерд не старшего, Андрея, не Дмитрия, а младшего, сына Ульянии, Ягайлу. И ему оставлял – готовился оставить – это все: город, княжество, власть над обширною, завоеванной им и отобранной у татар землею русичей от моря и до моря… А ведь с чего началось, с какой малости началось! И сейчас бы, при смерти, порадовать ему, но – не было радости! Не была сокрушена Польша, ни венгерский король, ни Москва – а без того все его приобретения зыбки, как вечерний туман над болотом, и могут растаять, уплыть, просочиться, словно вода в песок… Почему никогда прежде – никогда! – не чуял он этой временности, мгновенности земного существования? И – только теперь! Когда поздно, все поздно!
…Вот сейчас взойдет русский поп. И – успокоит? Даст увидеть нечто, о котором постоянно толкуют они в своих церквах?! Он не мог уже насмешничать. Жизнь уходила из него, как вода из разбитого кувшина, жизнь уходила, как вода… Он долго жил и много содеял, но оказалось, и жизни, и дел не хватило ему!
Целебное питье помогало только на время. Он голодным, обострившимся взглядом вперялся в лица слуг, искал за личиною внешней заботливости радость о его смерти. Он никому не верил и теперь, на ложе смерти своей!
Ульяния, вечно упрямо бившаяся с ним ради своих поповских дел, и теперь хлопочет о том же, дабы окрестить его в свою веру хотя бы перед могилой. Хлопочет о детях, о Ягайле, который – да! – нравился ему, как котенок-игрун, но удержит ли он власть в обширной стране?
…Они вошли толпою: Ульяния, Ягайло, раб Войдыло и Анна, и Ольгерд устало отметил неподобье того, что княжеская дочь пришла чуть ли не вместе с рабом, забравшим силу при дворе, сановным и властным, но все же рабом, коему и боярский чин не прикрыл его подлого происхождения! Но уже и все равно было. Пускай решают сами. Он взял Ягайлу за руки, долго смотрел, вглядываясь, в это лицо. Теперь, почти уже с той стороны жизни, из дали дальней, из которой никто еще не возвращался назад, увидел мелочность, узрел злобность и самомнительность, узрел откровением, данным умирающему, что этот мальчик будет игрушкой в чужих руках, в руках того же Войдылы, в руках бояр, католических ксендзов, немцев, двоюродного брата Витовта, будущей жены… И в эти руки вложил он судьбу земли, судьбы содеянного им!
К кому воззвать?! Даже и теперь, согласясь принять вторично святое крещение, умирающий Ольгерд не верил в Бога.
Он обозлился. От злости почуял себя лучше. Почуяв лучше, узрел привычное – любимого сына, верного раба, коего содеял он боярином, заботливую жену…
– Почему не едет Кейстут? – вопросил, и в голосе прозвучали отзвуки былой властной силы.
Доскакать от Тракая до Вильны можно было за час. (И тотчас в воспаленном, измученном мозгу сложилось: «Неужели?!») Но Кейстут ехал.
Скакал и уже сейчас подымался шагом на разгоряченном коне по долгой и крутой, завивающейся вокруг холма дороге к замку.
Вестоноша уже вбежал в горницу:
– Князь Кейстут!
Отлегло от сердца. Помедлив, он взором удалил Войдылу (знал, что брат ненавидит раба) и дочерь; Анна как собачка пошла за ним… (Потом вскоре Кейстут ни за что не простит этого своему племяннику и за брак Войдылы с дочерью Ольгерда постарается взыскать со сводника. Но Ольгерд уже не узнает того.) Брат взошел, и сама Ульяния отступила от ложа. Даже и умирая, не утратил власти своей Ольгерд. Женщина не должна вступать в разговоры мужей.
Худое, иссеченное морщинами лицо Кейстута склонилось над ним.
Когда-то льняные, теперь белые волосы упали на лоб. Брат был тоже стар, но вот все еще жилист и жив и даже не дышит тяжело, проскакав тридцать русских верст в единый након!
– Я мало о чем просил тебя в нашей с тобою жизни, Кейстут!
– И, волею Перкунаса, мы не ссорились с тобою доднесь! – возразил Кейстут, отводя сухою жилистой дланью волосы со лба.
– Да, не ссорились… Что ты хочешь этим сказать мне теперь, брат?
– Только одно, – ответил Кейстут. – Я не хочу иметь дело с Войдылой, который стоит сейчас за дверью и слушает нашу с тобою беседу, Ольгерд!
Ольгерд смотрел в суровое лицо брата и думал о том, что по чести престол должен теперь перейти к нему. («Жемайтия вся станет за Кейстута, ежели начнут выбирать!» – подумал он.) – И все же обещай мне, брат! – сказал он, страстно, собрав все последние силы и подымаясь на локтях. – Обещай во имя нашей с тобою дружбы, во имя прожитых лет, во имя Перкунаса и священного огня, во имя пролитой крови, во имя величия нашей земли, наконец! – почти выкрикнул Ольгерд в упрямое лицо брата. – Обещай! Я хочу оставить сына, вот этого, Ягайлу, хозяином всей земли. Обещай, что поможешь ему и не нарушишь моего завещания!
Кейстут медлил. Он глядел в повелительные, яростные, строгие, зовущие, отчаянные, жалобные, бессильные глаза брата и думал. И на одной чаше качающихся весов стоял чужой и чуждый ему сын тверянки Ульянии, черноглазый Ягайло, а на другой – весь долгий жизненный путь, который они прошли вместе, победы и поражения, битвы и плен. (И хотелось – но не сказалось уже никогда – укорить Ольгерда в том, что прятался всю жизнь за его, Кейстутовою, спиною…) И вот брат уходит и молит его, Кейстута…
Молит о помощи, потому что без его помощи власти Ягайле не удержать… И тверянка, немолодая уже, постаревшая от частых родов женщина с отвердевшим лицом, почти ровесница его Бируте, ждет немо и упрямо и будет биться за сына, будет сейчас крестить перед смертью Ольгерда, вместо того чтобы дать ему уйти к своим древним богам. (Кейстут никогда никого не укорял и не преследовал за веру, но знал: его самого похоронят только литвином – язычником.) И она ждет, и ждут воины, которые теперь, после Ольгерда, хотят служить его сыну, а не брату, засевшему в Троках, в низком и тяжелом замке, окруженном озерной водой.
Кейстут снова смотрит в лицо брата, вглядывается, ищет родное, знакомое и вдруг пугается, до конца, до предела осознав, что брат умирает, уходит от него навсегда, весь, с его планами, быстрым умом, с его нежданными и не всегда понятными решениями… Уходит. И уже не вернется.
Никогда! Он берет в свои ладони эту бессильную, холодеющую руку, медлит.
Говорит наконец:
– Обещаю тебе, Ольгерд!
– На мече поклянись! – требует умирающий, все еще борясь с бессилием плоти. – Пока я не стал христианином, поклянись нашей старою литовскою клятвой, Кейстут!
Кейстут встает. Ему приносят меч с перевязью, оставленный у придверника. Ульяния отворачивает лик, дабы не присутствовать при идольском обряде. Ягайло жадно смотрит, вытягивая шею, черные глаза блестят. Кейстут клянется, смутно понимая, что уступил не тому, чему следовало. («Почему не Андрей?» – запоздало проносится у него в голове.) Провожая дядю, Ягайло, как щенок, приникает к его руке, целует горячо, и старый размягченный Кейстут думает, что – ничего! Авось все и обойдется! И с мальчиком этим, и даже с Войдылой, которого он отставит, сошлет, не даст ему руководить делами страны…
Зря он думает так, старый верный Кейстут! Зря он думает так, и напрасно он так прям и бесхитростен. Время таких, как он, прошло, окончило, прокатило. Начинается новое, в котором ты бессилен, Кейстут, и в котором ты уже проиграл все, даже свою жизнь!
Ольгерд смотрел в спину уходящего Кейстута и смутно (он был темен, и голос души едва-едва брезжил ему), лишь смутно понимал, что совершил что-то не то, что Кейстут уходит не только из покоя, уходит из жизни его, Ольгердовой, и откуда-то еще, что, когда эта высокая сутулая спина исчезнет за дверью, прервется нечто бесконечно важное, прервется и уже не восстановится вновь… Он хотел крикнуть, остановить, вернуть, но только захрипел, отчаянно глядя в спину единственного, как понял в этот кратчайший миг, до конца преданного ему человека.
Не воротить! И уже вступает в келью священник в шитой шелками ризе, а за ним служка с дарами в руках. Его кропят водой. Он начинает биться в полузабытьи. Ульяния, успокаивая, держит его за руки. Лба касается холодная капля мира. («Зачем это все, зачем?! Он же все равно не верит, ни во что не верит! Разве для нее, Ульянии…») Читают какие-то молитвы, поют. («Все не надобно, все попусту!») И когда уже окончено все, и даже принято причастие, и священник ушел, он спрашивает, скривясь:
– И что, теперь мне обещана жизнь вечная?
Но Ульяния не приемлет шутки умирающего, энергично кивает головою:
– Да, да! Теперь ты спасен! – отвечает она. (Спасен, чтобы умереть!) Он медлит, дышит тяжело и хрипло. (Вот, кажется, отпустило, вот опять…) Две слезы выкатываются из тускнеющих глаз умирающего. Он уже не видит Ягайлу, не видит, кто там взошел в покой. Лишь склоненное лицо Ульянии, проясневшее, утратившее жесткость черт, явственно висит над ним, недоступное, как луна в небе. И он тянется к ней, жаждая получить последный поцелуй, а она не понимает, поправляет ему подушки и, в заботе о бренном, упускает тот последний миг, когда глаза князя, холодея и голубея, словно драгоценные камни, перестают видеть уже что-либо, и прерывается дыхание, и челюсть безвольно отваливается вниз… Князя уже нет, а Ульяния все хлопочет, оправляя ложе. Но вот она видит, понимает, вскрикивает, падает на еще не остывшую грудь, а мышонок-княжич, пластаясь по камню стены, не в силах оторваться от нее и приблизить к ложу, смотрит испуганно во все глаза. Смотрит и ждет. Он боится, что грозный отец вот-вот снова встанет… Не встанет! Вновь входит Войдыло, говорит громко: