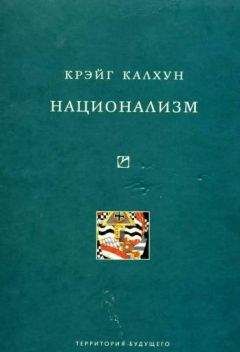Ознакомительная версия.
До своего вхождения в XV веке в Османскую империю Босния была спорной территорией на границе между христианской Европой и растущим влиянием ислама и османского правления. Сербы, например, очень эмоционально заявляют о своем происхождении от солдат царя Лазаря, участвовавших в Косовской битве в 1389 году. Эти предки предпочли погибнуть в неравном бою, чем сдаться османам, и памятью о них оправдывались нападения на боснийских мусульман шесть веков спустя. Конечно, было бы неправильно считать, что такая традиция сохранилась благодаря простой памяти. Ее необходимо было активно прививать. В 1980-х и в начале 1990-х годов потребовалось разжечь огонь воспоминаний, чтобы сделать память о 1389 году эмоционально важной проблемой.
Речь идет не просто о пяти веках относительного мира: крайне ограниченная борьба 1990-х годов существенно отличалась от столкновений империй пятью-шестью веками ранее. И, конечно, ее обострению способствовали оборонительные маневры, предпринимавшиеся Австро-Венгерской империей. Империя перемещала целые сербские деревни на территории, где долгое время проживали только хорваты, чтобы использовать пресловутую свирепость сербов в бою в качестве переднего оборонительного рубежа на случай возможной османской агрессии[42]. Тем самым нарушалась чистота этнической территории.
Но идеология, которая возобладала после распада Австро-Венгерской империи в предполагаемых национальных государствах, гласила, что национальные культуры исторически были и должны были снова стать гомогенными и связанными с компактными территориями. Иными словами, существовали сербская идентичность, обладавшая своей особой сущностью, и только одно место, где сербы могли жить по-сербски. Эта идея полностью противоречила действительной истории региона, где каждая местность и особенно каждый город были мультикультурными. Тем не менее такие представления способствовали появлению множества государств, которые, как считалось, представляли различные национальные группы, хотя ни одно из них не было однородным в этническом, языковом или иных отношениях. Всякая национальность, которая должна была объединить граждан любого из этих государств, должна была быть создана, а не просто найдена. Но также верно, что, кроме временной паники и погромов, эссенциалистское представление о национальности — представление, что можно найти четкие и ясные признаки, разделяемые всеми членами нации и отсутствующие у всех не-членов, — никогда не имело определяющего значения в реальности, в принятии повседневных решений и в дискурсе озабоченных строительством государства и обеспечением легитимности элит. Именно поэтому показатели браков между членами предположительно разных национальных групп могли оставаться весьма высокими (от 30 до 40% городских браков после Второй мировой войны [Donia and Fine 1994: 9]).
Иногда Югославия воспринималась не как работавшая федерация, хотя она неплохо работала, а как крышка, которой был накрыт бурлящий котел этнического недовольства. Снятие крышки, как считалось, просто привело к выходу наружу сил религиозной и националистической ненависти, кипевших целую вечность. Этот образ, к сожалению, оказал большое влияние на западные средства массовой информации и на многих ключевых внешних участников, вроде госсекретаря США Уоррена Кристофера (Cushman and Mestrovic 1996). В своем первом выступлении о боснийской войне после вступления в должность Кристофер заявил, что все дело было в «давней этнической ненависти» и что Соединенные Штаты или Запад не в состоянии были ничего сделать, кроме как ослабить страдания через органы вроде Красного Креста, и ограничить распространение войны (или беженцев).
Но Кристофер заблуждался. Он заблуждался насчет фактов, не замечая долгую историю мира в Боснии (Donia and Fine 1994; Malcolm 1996). Он не замечал роль циничных манипуляций, которые имели место наряду с искренним, хотя и крайним национализмом. Он заблуждался, полагая, что внешние силы не в состоянии ничего изменить, и это — когда борьбой уже манипулировали внешние силы, а Соединенные Штаты ввели дискриминационное эмбарго на поставки вооружений. Он заблуждался, считая Югославию менее «реальной» нацией из-за ее недавнего создания и попытки быть многоэтничной (Denitch 1994).
Хотя Югославия Тито была не так уж плоха, она подготовила почву для более позднего националистического конфликта, проведя границы таким образом, что различные республики федерации не совпадали с этническими территориями. Как и австро-венгры ранее, правители Югославии сделали так, чтобы часть сербов жила в Хорватии и наоборот, и сделали так на сей раз не в военных целях, а для ослабления стремления к отделению или проведению чисто этнической политики в рамках федерации (Banac 1984; Denitch 1994). Предпринятая после 1992 года попытка привести границы отделившихся государств в соответствие с этническими идентичностями стала причиной острейшей борьбы и огромных людских страданий. Тактика этнической чистки была отвратительна. Но цель не слишком отличалась от цели национализма во всем мире — стремления контролировать территорию, на которой люди обладали одной этничностью, говорили на одном языке, исповедовали одну религию.
Вопреки заявлению госсекретаря Кристофера о том, что источником конфликта была давняя этническая ненависть (утверждения, позволявшего оправдать бездействие), конфликт сочетал некую довольно старую историю с некими совершенно новыми чертами. Возьмем различие между сербами и хорватами. Преподносимое ныне в качестве давнего этнонационального различия, еще в XIX веке оно касалось главным образом религиозного различия между людьми, которые говорили на одном языке и имели одно этническое происхождение. Сербы стали православными под влиянием России, а хорваты были католиками, имевшими более прочные связи с Западом. Только в XIX веке сербские и хорватские интеллектуалы предприняли первые попытки проведения различия между своими языками, создавая новые словари, новые стандарты правильного произношения и новые литературные стили. Они занимались этим во время международной волны национализма, которая также привела к возрождению, если не открытому переизобретению, каталонского, гаэльского и других сравнительно небольших языков, связанных с сепаратистскими политическими амбициями в других европейских странах[43].
Они занимались этим в обстановке нарастающего кризиса Австро-Венгерской империи и масштабной перегруппировки геополитических сил, которые вывели на передний край не только систему единых национальных государств, но и современный глобальный капитализм. Такое сочетание подготовило почву для Первой мировой войны. С одной стороны, капитализм вел к росту межгосударственной торговли. С другой стороны, процесс накопления капитала — получения прибыли — был организован на национальной основе.
Европейские государства не только широко торговали друг с другом и во всем мире, они также отбирали многое у этого мира, осуществляя прямой контроль посредством колонизации. Тем не менее властные отношения в самой Европе были нестабильными. Во многих странах перед началом Первой мировой войны широкое распространение получили рабочая борьба, социалистическая агитация и растущая националистическая воинственность. На международной арене относительно стабильные и давно сложившиеся национальные государства Запада — особенно Британия и Франция — стремились сохранить стабильность и международное влияние перед лицом попыток представителей Центральной и Восточной Европы (включая русских) сформировать современные государства. Со стороны Российская империя выглядела куда более прочной, чем австрийская, и западноевропейцы обращались к Москве как к союзнику в борьбе против процессов распада, развернувшихся в центре Европы. Как заметил австрийский профсоюзный лидер, «Интернационал Востока во главе с Россией соединился с британским и французским Интернационалом Запада, чтобы отказать Среднеевропейскому, Среднеазиатскому Интернационалу в доступе к остальному миру и будущему участию в управлении этим миром» (Renner 1978: 124).
И основной международной проблемой, конечно же, была неясность в вопросе о том, где должны были пролегать границы этих развивающихся государств. Национализм быстро заменил собой династические притязания на легитимность. Но, как не раз наблюдалось на всем протяжении XX века, национальная идентичность была не столько готовым ответом на вопросы политической легитимности, сколько риторикой, используемой при обсуждении соперничающих ответов. Притязания на немецкую идентичность, например, могли не выходить за пределы вновь расширившегося сегодня германского государства или быть настолько широкими, чтобы включать Австрию и часть Польши, не говоря уже о немцах, живущих в России и Соединенных Штатах.
Ознакомительная версия.