Мифологическому мышлению неизвестно понятие «человек», равно как и понятие «жизнь», «смерть» и др. Однако с течением времени такие понятия создавались. В ветхозаветном словаре, например, содержатся 18 слов, в той или иной степени обозначающие человека вообще, человека как такового [219, с. 25–37]. С течением времени сокращается число таких слов — с 18 до 8, снижается степень повторяемости одних и возрастает частотность других. Исчезают из употребления или становятся малоупотребительными слова с «разбросанной» полисемией, такие, например, как хаййа, хай, ми-хйа, имеющие значения: живое, жизнь; животное, хищное животное, живоподобные существа; поддержание жизни, средства на жизнь; оживление, живое в связи с действиями бога; продолжительность жизни; жизненное счастье (преимущественно как дар божий). Эти и им подобные слова переставали удовлетворять человека из-за их смысловой размытости и неоднозначности, из-за недостаточно четко выраженного в них обособления человека от природы. Наоборот, из слов, обозначающих человека вообще, человека как такового, в ветхозаветном словаре сохраняются и даже начинают в нем увеличивать свою повторяемость те слова, которые характеризуются «собранной» полисемией или стремлением к ней, которым свойственна смысловая однозначность и определенность и которые в той или иной степени выражают принципиальное отличие человека от прочего мира.
Одним из таких слов является ’адам, которое в Ветхом завете упоминается 547 раз. Этимология этого слова от ’адм («быть красным») или ’адам («кожа»), равно как очевидная его близость к слову ’адама («почва», «пахотная земля», «земельная собственность»; «царство мертвых» и т. д.), указывает, что оно восходит к восприятию мира нерасчлененным и нерасчленяемым, что находит выражение и в обозначении этим словом Первочеловека — Адама. Однако основные значения рассматриваемого слова «человек» и «человечество» [132, с. 105; 172, с. 2 — 11; 157, с. 16–17] выражают обособление человека от природы, от животного мира, различение его также от бога, хотя в слове 'адам, соотносящемся с актом сотворения человека богом, есть оттенок признания слабости человека как такового перед творцом, зависимости человека и человечества от бога.
В Ветхом завете наиболее распространенным и характерным обозначением человека как такового, человека вообще являются слова ’иш (2160 упоминаний) и ’ишша (775 упоминаний), высокая частотность которых может служить еще одним показателем значимости человека в древневосточной модели мира. Эти слова — 'иш (мужской род) и ’ишша (женский род) — имеют значения: каждый, каждая; мужчина, женщина; супруг, супруга, и выражают главным образом социально-профессиональную спецификацию индивида, его связи с домом, общиной, городом, этнической общностью и т. д., но чаще всего принадлежность индивида к сословию свободных, определяют индивида как человека свободного, противопоставленного рабу.
В представлении древневосточного человека «душа» и «тело» неотделимы, одно есть внешняя и видимая манифестация другой [183, с. 256–258; 55, с. 256 и сл.], что подтверждается употреблением для обозначения человека вообще, как такового, слова нэфеш. Это слово (727 упоминаний) чаще всего обозначает живое, активное начало в человеке и человека как носителя этого активного начала — «души». Причем «в действительности она (душа) есть все что угодно, только не душа индивидуальная. Лишь коллективная душа, к которой принадлежат индивидуальные души, определяет образ последних» [199, с. 70–76], т. е. слово нэфеш как термин, обозначающий человека вообще, выражает представление о нем как о единстве физического и психического, но также представление о непременной связи человека с людским сообществом.
Справедливость сказанного подтверждается многочисленными примерами. Если в словах: «Сытая душа (нэфеш) попирает и соты, а голодной душе горькое сладко» (Пр. 27, 7) и пр. нэфеш предстает обозначением человека вообще, как единства физического и психического, то около 180 раз в Ветхом завете нэфеш служит обозначением людской общности, выражает связь индивида с нею, как, например, в словах: «…поэтому воины Моаба рыдают, душе его плохо» (Ис. 15, 4) и др.
Мифологическое мышление признает идентичность акта созидания и акта номинации, наименования. Об этом красноречиво свидетельствуют строки из древней шумерской поэмы «Гильгамеш, Энкиду и подземное царство»:
После того как небо отделилось от земли,
После того как земля отделилась от неба,
После того как человеку было дано имя
[68, с. 105] —
или значительно более позднего ветхозаветного мифа творения, согласно которому Йахве Элохим сотворил всех животных и птиц, привел их к Адаму (Быт. 2, 19), «чтобы видеть, как он (Адам) назовет их, и чтобы, как наречет человек всякую душу живую, так и было имя ей». Потому-то «имя», т. е. название человека, есть сам человек [183, с. 82], а слово тем (- имя), одно из распространенных в Ветхом завете слов (860 упоминаний), обозначает не только человека как такового, человека вообще, но служит также средством его индивидуализации, различения данного человека — имени от других людей — имен, хотя подобная индивидуализация носит относительный характер в силу богосотворенности всех людей.
Богосотворенность — это альфа и омега древневосточного представления о человеке, что при господстве матричности мифологического мышления, распространении на древнем Ближнем Востоке концепции «праобраза» (см. выше, гл. II) порождает столь характерное представление о богоподобности человека [165, с. 256 — 263; 168, с. 19–21]. Оно отчетливо выражено в шумерском мифе об Энки и Нинхурсаг:
О мать, создание, что ты назвала, существует,
Придай ему образ (?) богов
[88, с. 130],
а также в более позднем аккадском «Сказании об Атрахасисе», где Энки, которому боги поручили сотворение человека, заявляет:
Один из богов да будет повергнут,
Да очистятся боги, в кровь окунувшись,
Из его (повергнутого бога) плоти, на его крови
Да намешает Нинту глины!
Воистину божье и человечье соединятся
Смешавшись в глине!
[122, с. 56–57; I, стк. 208–213].
Эти и многие другие примеры показывают распространенность на древнем Ближнем Востоке представления о богоподобности человека. Но этот бесспорный вывод не следует абсолютизировать, поскольку более поздние (середина и вторая половина I тысячелетия до н. э.) ветхозаветные книги — Паралипомеион, Экклесиаста и др. и вневетхозаветные тексты — «Разговор господина с рабом» и др. обнаруживают тенденцию подчеркивать автономность человека по отношению к богу, старательно избегают указаний на богоподобность человека [219, с. 36].
Итак, древневосточному человеку знакомо обобщенное, абстрактное понятие «человек вообще, человек как таковой» и даже такая абстракция, как «человечество», что можно считать еще одним доказательством растущей антропоцентричности древневосточной модели мира. Однако не следует переоценивать степень подобного абстрагирования — в словах, обозначающих человека вообще, «человек» все-таки не до конца свободен от индивидуальной конкретности, он всегда предстает связанным с различными людскими общностями и представляет собой единство или, точнее, двуединство физического и психического, тела и души.
* * *
Обосновывая и развивая свою концепцию типологического различия древневосточной словесности и греческой литературы, древневосточной и античной культуры, С. С. Аверинцев пишет, что «вообще выявленное в Библии восприятие человека ничуть не менее телесно, чем античное, но только для него тело — не осанка, а боль, не жест, а трепет, не объемная пластика мускулов, а уязвляемые „потаенности недр“; это тело не созерцаемо извне, но восчувствованно извнутри, и его образ слагается не из впечатлений глаза, а из вибраций человеческого „нутра“» [4, с. 62]. Как считает автор, именно поэтому столь редки описания человеческого тела, а имеющиеся «дают не замкнутую пластику, а разомкнутую динамику, не форму, а порыв, не расчлененность, а слиянность, не изображение, а выражение, не четкую картину, а проникновенную инкогнацию» [3, с. 228]. Можно привести в подтверждение этого суждения немало примеров: шедевры Амарнского искусства — нервно-напряженные, болезненно-некрасивые изображения Эхнатона, исполненные женственности, тревожно-одухотворенные портреты Нефертити и др.; горестные строки средневавилонской поэмы «О Невинном страдальце»:
Во мраке лик мой, рыдают очи,
Затылок разбили, скрутили шею,
Ребра пронзили, грудь зажали,
Поразили тело, сотрясли мои руки…
[122, с. 219; II, стк. 60–64].
Однако непредвзятый просмотр древневосточных текстов — изобразительных и словесных — доказывает, что подобное восприятие человеческого тела для культуры древнего Ближнего Востока явление скорее всего маргинальное, а не сущностное, эпизодическое, а не постоянное. В древневосточной культуре как раз преобладают и «осанка», и «жест», и «пластика мускулов», столь отчетливо проявляющиеся в древнеегипетском изобразительном искусстве, причем далеко не только в канонических изображениях фараонов, которым свойственны величавость осанки, монументальная пластика. Особенно показательна ликующая «телесность» таких шедевров неканонического искусства, как статуя писца, статуя «сельского старосты» Каапера времени Древнего царства, очаровательные изображения музицирующих и танцующих девушек на фреске времени Нового царства. (Эта фреска привела в такой восторг искусствоведа, что он провозгласил ее «картиной истинно прекрасной жизни» [177, с. 232].) Приведем отрывок из «Песни песней»:
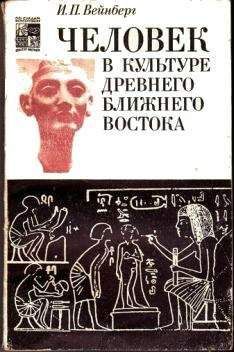




![Ричард Адамс - Обитатели холмов [издание 2011 г.]](https://cdn.my-library.info/books/49785/49785.jpg)