В этом сочинении показательно многое — говорящие вещи, победа архаики (Мотыги) над инновацией (Плугом), лишенное метафоричности признание тождества Мотыги и человека (Мотыга — «сын» бедного человека) и четкая противопоставленность ей Плуга как «сделанного», «собранного», чем, возможно, и объясняется победа в этом споре Мотыги, сливающейся с человеком, над Плугом, отделяемым от него.
В победе Мотыги над Плугом сказывается еще одна особенность восприятия вещи древневосточным человеком — иерархическая упорядоченность мира вещей, особенно отчетливо проявляющаяся на примере еды (пира) и золота.
«Самая обыкновенная еда», пишет О. М. Фрейденберг [115, с. 137–138] об архаическом восприятии вещи-еды, «представляет собой… жертвоприношение», т. е. сакральное действо. Однако на древнем Ближнем Востоке уже имело место некоторое различение и разграничение между ежедневным, обыденным и, как правило, частным, внутрисемейным питанием, весьма скромным по набору и количеству кушаний, и пиром, носившим, как правило, публичный характер и отличавшимся изобилием, избытком подаваемой и поглощаемой пищи.
Первое — ежедневный прием пищи — в силу своей обыденности и приватности не обладает особой престижностью и поэтому в древневосточных текстах упоминается сравнительно редко, преимущественно в контексте «нищета — отсутствие еды», что видно на примере шумеро-вавилонских поговорок: «Если умер бедняк — не воскрешай его: когда у него был хлеб, у него не было соли; когда у него была соль, у него не было хлеба; когда у него была горчица, у него не было мяса; когда у него было мясо, у него не было горчицы» [39, с. 16; № 25]. В данной поговорке проявляется еще одна семантическая связь: еда есть жизнь, отсутствие еды есть смерть, и поэтому «Пиршественное торжество — универсально; это торжество жизни над смертью» [12, с. 307]. Это убедительно иллюстрируют слова средневавилонской (конец II тысячелетия до н. э.) поэмы «О Невинном страдальце»:
Когда голодны, лежат, как трупы,
Наелись — равняют себя с богами!
[122, с. 218; II, с. 44–45].
Поэтому тема «пир», «пиршество» так часто встречается в древневосточных словесных и изобразительных текстах, начиная с описания пира богов в ханаанейском цикле «О Баале и Анате», где во время пира вино льется рекой:
Они взяли тысячу кувшинов вина,
Десять тысяч смешали смеси
[88, с. 212],
до общинных трапез кумранитов, отлучение от которых служило наказанием для отступников [6, с. 144–148]. В ассирийском изобразительном искусстве VII в. до н. э. с сюжетами «царь на войне», «царь на охоте» соперничает сюжет «царь на пиру». Государь изображается возлежащим на роскошном ложе с сидящей рядом на тронном кресле царицей. Их окружает многочисленная челядь: одни машут опахалами, другие играют на музыкальных инструментах, третьи разносят напитки и яства — а на дереве висит голова поверженного врага! В отличие от подчеркнутой скромности, скудности ежедневных частных трапез публичный пир характеризуется изобилием, избытком еды (косвенное свидетельство тому — «угощение» умершего египтянина, состоящее из 10 сортов мяса, 5 сортов птицы, 16 разновидностей хлеба и печений, 6 сортов вина и т. д. [160, с. 219]) и столь же избыточным его поглощением. Например, герой древнеегипетской сказки, волшебник Джеди в свои 110 лет «съедает пятьсот хлебов, мяса — половину быка и выпивает сто кувшинов пива», демонстрируя этим незаурядным аппетитом свою жизнеспособность, свою «положительность», равно как и устроитель пира богатством, изобилием яств утверждает свое право на жизнь, свою «положительность».
Четкой иерархией вещей объясняется также особое место, которое в сознании древнего человека отводилось золоту. Особенно наглядно это проявляется в третьем элементе многосоставной титулатуры египетского фараона, в так называемом золотом имени фараона [14, с. 41–59]. Оно, несомненно, связано с представлением о золотом соколе как воплощении божественной царственности фараона, о золоте как синониме прочности, нетленности, и как о субстанции божества, плоти любого бога и фараона. Поэтому в «Текстах пирамид» умерший фараон предстает как золотой телец, поэтому на изображениях многих гробниц желтым цветом раскрашены люди, поэтому позолочены или отлиты из чистого золота маски мумий и саркофаги (например, знаменитая золотая маска Тутанхамона и его золотой гроб). Мерцанием золота и серебра заполнен Ветхий завет, где слова «золото» (захаб, 385 упоминаний) и «серебро» (кесеф, 400 упоминаний) принадлежат к числу распространенных, причем эти металлы чаще всего упоминаются в связи с храмом Йахве и царским дворцом. Золото, серебро и другие драгоценности служат показателем «положительности» такого царя, как Соломон, во дворце которого «двести больших щитов из кованого золота по шестисот (кусков) золота на каждый из них. И триста меньших щитов из кованого золота по три мины золота на каждый щит» (III Ц. 10, 16 и сл.). Когда же сын и преемник Соломона был вынужден заменить эти золотые изделия медными, это воспринималось как падение «положительности» нового царя.
Иерархичностью вещей в значительной степени определялся также их набор древневосточным человеком, который при этом руководствовался не столько соображениями необходимости и целесообразности данных вещей, сколько принципом долженствования. Точнее, именно долженствованию принадлежала важная роль при определении необходимости вещи, особенно когда речь шла о публичном появлении человека.
Возлюбленная спешит к брату, говорится в древнеегипетской любовной песне «Начальное слово великой подательницы радости» (XII в. до н. э.), и не успевает как подобает одеться:
Ни тебе платье надеть,
Ни тебе взять опахало,
Ни глаза подвести,
Ни душистой смолой умаститься!
[99, с. 85].
В этом как раз принципиальная разность между определением содержания «нужного» и «ненужного» в мифологическом и научно-логическом мышлении: когда вещь воспринимается отдельно от человека, то ее «нужность» определяется той функциональной ролью, которую она выполняет по отношению к человеку. Если же вещь воспринимается слитной с человеком, то критерием ее необходимости выступает принцип «долженствования»: каждый «положительный» человек должен обладать «положительной» вещью. А поскольку «положительность» человека проявляется преимущественно публично, то именно публично древневосточный человек должен предстать в окружении «положительных» вещей. Этим объясняется, что даже в Амарнском искусстве, столь увлеченном изображением ранее замалчиваемой, скрытой частной жизни фараона, скромные одеяния Эхнатона и Нефертити, нагота царевен в бытовых сценах сменяются пышностью и роскошью одеяний при изображении их торжественных публичных выходов, как, например, в знаменитой сцене вручения Эхнатоном даров вельможе Эйя и его супруге Тейя.
Эта фреска лишь одно из многочисленных свидетельств древневосточных изобразительных и словесных текстов, которые подтверждают важность в жизни древнего человека феномена «дар, дарение». В основе этого явления лежит представление, также обусловленное слитным восприятием человека и вещи, что при обмене дарами частица сущности дарителя переходит к получающему дары и тем самым между ними устанавливается тесная связь [168, с. 139–140]. Поэтому обмен дарами закрепляет любой договор, подобным обменом подтверждается дружба: «Ионафан же заключил с Давидом союз, ибо полюбил его, как свою душу. И снял Ионафан верхнюю одежду свою, которая была на нем, и отдал ее Давиду, также и прочие одежды свои, и меч свой и лук свой и пояс свой» (I Ц. 18, 3–4). Но особо ценятся подарки сильных мира сего, которые приобщают получателя даров к «положительности» дарителя — «Подарок человека дает ему простор и до великих (людей) его доведет» (Пр. 18, 16) и др., — конечно, при условии, что сам дар обладает соответствующей «положительностью», принадлежит к классу «добрых» вещей. Поэтому во всех жизнеописаниях египетских вельмож, со времен Древнего царства до заката Нового, столь значительное место занимает тщательное перечисление полученных от фараонов даров. Жизнеописание начальника гребцов Яхмоса (XVI в. до н. э.) открывается словами: «Я обращаюсь к вам, все люди, я сообщаю вам о милостях, выпавших на мою долю. Я был семикратно награжден золотом перед всей страной, а также рабами и рабынями. Я был наделен огромным количеством пахотной земли…» [118, 1, с. 63], а в тексте к фреске, изображающей одаривание Эхнатоном сановника Эйя и его жены Тейя золотыми кольцами, золотыми чашами, диадемами и другими драгоценностями, говорится, что они «стали людьми золота», т. е. посредством подарков из золота, содержащих частицу золотой плоти фараона, Эйя и Тейя приобщаются к этому высшему положительному качеству, связываются с ним. Поэтому описание и изображение приносимых даров и их дарителей — одна из излюбленных тем придворной летописи, один из наиболее распространенных сюжетов рельефов и фресок в царских дворцах. Так, например, рельефы в дворцах персидских царей в Персеполе изображают представителей всех подвластных Ахеменидам народов, которые ведут за собой различных животных или несут разнообразные сосуды. Предполагается, что изображена доставка в царский дворец по случаю праздника Нового года дани или «подарков», скорее всего последних, которые вносились натурой. Но самое любопытное в том, что эти подарки «не носили добровольного характера. Они, как и налоги, были строго регламентированы и назывались подарками, скорее, эвфемистически» [37, с. 188]. Вероятно, однако, что подобный эвфемизм имел немалую смысловую нагрузку: называя «подарками» то, что уже давно перестало ими быть, сохраняя натуральную, вещную форму этих «подарков», Ахемениды, возможно, хотели подчеркнуть личностный характер своей связи с подданными.
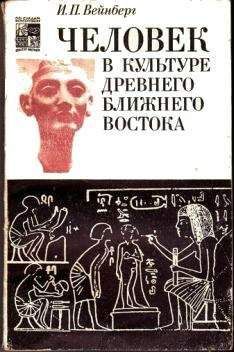




![Ричард Адамс - Обитатели холмов [издание 2011 г.]](https://cdn.my-library.info/books/49785/49785.jpg)