Их не мобилизовали, они сами посчитали себя мобилизованными (подготовиться к уходу в подполье не имели времени, партизанское движение еще не успело оформиться).
Некоторые из них, но далеко не все прошли когда-то армейскую школу, воинских званий не имели, назначений
не получили. Их использовали для отдельных поручений и заданий; иные занимали место убитых и раненых политруков и комиссаров. Все они были полны решимости сражаться и в боях отличались беззаветной храбростью, а главное — умением сплотить и повести за собой людей.
Оставшиеся в живых участники битвы в Зеленой браме вспоминают их в своих письмах с уважением и любовью. Большинство прикомандированных погибли еще в июльских боях, а остатки роты, а точнее, политотдельского резерва попали в Зеленую браму. Ветераны утверждают, что в последнем своем бою — 5 августа — они дрались отчаянно, до последнего дыхания.
Я помню этих добровольцев, это своего рода партийное ополчение, влившееся в ряды кадровой воюющей армии.
Помню всегда, хотя сейчас уже, пожалуй, не мог бы назвать их по именам и фамилиям...
Какие же все-таки части посчитал Ганс Штеец комиссарскими?
Может быть, он имеет в виду политбойцов — рабочих и студентов, прибывших к нам из Днепропетровска в середине июля?
Об этих ребятах тоже надо рассказать. Их история недавно выплыла из забвения.
На седьмой день войны в Днепропетровске на заводах имени Ленина, имени Коминтерна, имени Карла Либкнехта, на «Петровке» и на вагоноремонтном имени Кирова, в университете, в инженерно-строительном институте и других вузах рабочего города стихийно возникла запись добровольцев. Пришлось обкому комсомола потрудиться, помучиться с отбором: рвутся на фронт все, достойны — все, заявлений — гора, а надо и можно послать пока лишь десятки...
Третьего июля добровольцы коммунистического батальона покинули Днепропетровск. Десятидневные военные курсы — и на фронт!
Группа днепропетровских политбойцов прибыла на станцию Христиновка; вступили они в бой, что называется, с ходу, влившись в ряды сражавшихся там полков. Их объединили с пограничниками — высокая честь и доверие.
Знаете, господин Ганс Штеец, это, конечно, тонкости, но правильней было бы назвать группу днепропетровцев не комиссарскими частями, а комсомольскими: добровольцы в большинстве своем еще не успели вступить в партию, многие только мечтали и подали заявления. Их собирались принимать в перерыве между боями, но рассмотрение заявлений задерживалось, потому что перерывов не было —
сплошной бой. В Подвысоком они ходили в штыковые атаки и 1 августа, и 6-го, и 7-го.
В последнюю атаку политбойцы шли, уже трезво понимая, что из кольца не вырваться, но в железной уверенности, что каждая пуля, выпущенная ими, каждый удар штыка и приклада насущно необходим для будущей победы, которую они скорей всего не увидят.
И все же увидели!
Отметить сороковую годовщину из сорока трех добровольцев — студентов университета прибыло только одиннадцать.
Нескольких человек пионеры Днепропетровска нашли в коллективах могучих заводов города: ветераны трудятся безотказно.
Но оказалось, что никаких документов, подтверждающих их участие в боях сорок первого года, не сохранилось.
Бывшие политбойцы обратились к своему земляку — генерал-полковнику К. С. Грушевому, работавшему тогда секретарем обкома партии. Генерал Грушевой, член Военного совета Московского военного округа, был уже тяжело и безнадежно болен: считанные дни оставались в его распоряжении. Из больницы он послал ходатайство и запросы по многим адресам.
Константин Степанович не успел узнать, что в архивах обнаружено и переслано в Днепропетровск подтверждение службы и подвига политбойцов.
А какими были столь ненавистные врагу кадровые комиссары и политруки в наших 6-й и 12-й армиях, политработники, встретившие вместе со своими частями врага под Перемышлем и Равой-Русской?
Не берусь нарисовать обобщенный портрет комиссара. Но само слово «комиссар» стало легендарным.
О некоторых обстоятельствах далеких времен могу рассказать.
Осенью 1939 года, в связи с обострением обстановки в Европе, в ряды армии влились партийные работники. У нас в 6-й армии большинство политруков и комиссаров составляли именно этого призыва люди. Тогда был у них почти тот же военный стаж, что у красноармейцев срочной службы... Не имея опыта работы в армии, они заинтересованно и увлеченно вникали в новые для них армейские проблемы, внутренне перестраивались с гражданского на военное мышление, учась у командиров, прислушиваясь к тому, что скажут старые политработники, выдвинутые преимущественно с командных должностей или пришедшие в армию в начале тридцатых годов.
Годы тридцать девятый и сороковой стали для молодых комиссаров серьезной боевой школой: сражение у реки Халхин-Гол, поход в Западную Украину и Западную Белоруссию с целью защиты от гитлеровской агрессии, вооруженный конфликт с Финляндией, освобождение Бессарабии, наконец, тревожные предвоенные месяцы — все это формировало характер еще недавно совсем штатских людей. Правда, в тридцатых годах на гражданской работе они носили полувоенные, с роговыми пуговицами на карманах гимнастерки, сапоги, зеленые суконные, отличавшиеся лишь матерчатым козырьком от форменных фуражки и подпоясывались армейскими ремнями или наборными кавказскими ремешками. Так было принято.
Для этих людей не существовало времени рабочего и нерабочего — вся их жизнь, вся их деятельность, все их время отдавалось тому делу, на которое их направляла партия: на «гражданке» это были ликбезы, политотделы МТС и совхозов, ударные стройки, рабфаки и институты, а в армии — батальоны и дивизионы, эскадроны и, наконец, полки; для некоторых через очень малый промежуток времени — политотделы дивизий и корпусов.
Иные политработники в соответствии с высокими постами, которые они занимали на гражданской работе, сразу получили звание полковых комиссаров, а то и выше — бригадных, дивизионных, отмеченных ромбами на петлицах. Другие начинали с кубиков, но росли и продвигались быстро — во всем сказывалось ускорение, присущее тем временам.
Младший политсостав выдвигался из рядовых красноармейцев, совсем недавно вступивших в партию, вчерашних комсомольских активистов.
Читатель поймет мою честную наивность, если я скажу, что боготворил комиссаров и с юности мечтал о нарукавной звездочке. Может быть, я идеализировал их, почитал за людей особенных, уже по одному только своему званию легендарных? Нет, я встречался с ними, когда в 1938 году работал на Дальнем Востоке — на пограничных заставах, в 1939-м — в освободительном походе, в 1940-м — в снегах Карельского перешейка. Всюду я был свидетелем их скромного и спокойного мужества.
В первые недели войны слово «комиссар» означало только звание и призвание, а в частях работали заместители по политической части.
17 июля 1941 года был опубликован Указ Президиума Верховного Совета СССР о реорганизации органов политической пропаганды и введении в армии института военных комиссаров.
Решение было вызвано обстановкой, создавшейся на фронтах, а значит, в Красной Армии и вообще в стране. Уже не только политическая пропаганда, но и равная с командиром воинская ответственность легла на плечи комиссаров. Военный комиссар должен был осознать себя как представитель Партии и Правительства в армии. Что касается красноармейцев, то, я думаю, им не пришлось перестраивать своего отношения к политработникам: с первого снарядного разрыва они видели отвагу комиссаров, политработников и, если можно так сказать, практически и повседневно убеждались в их беззаветном служении коммунистическим идеалам.
Расширение обязанностей и прав комиссаров вовсе не означало, что войска в то время находились в плохом моральном состоянии, что пошатнулась вера в своих командиров, что красноармейцы, как говорится, пали духом.
В связи с этим я позволю себе привести высказывание... главного гитлеровского пропагандиста Йозефа Геббельса. Вот что он сказал 1 июля 1941 года (его слова приведены в книге И. Голанда «Гитлер», вышедшей в Мюнхене в 1978 году): «Если русские борются упорно и ожесточенно, то это не следует приписывать тому обстоятельству, что их заставляют бороться агенты ГПУ, якобы расстреливающие их в случае отступления, а наоборот, они убеждены, что защищают свою родину».
Комиссары в этой обстановке были знаменосцами советского патриотизма.
Вновь воспользуюсь признанием врага, с удовольствием процитирую выдержку из дневника фашистского генерала Лахузена. В июле, через несколько дней после начала войны, он записал: «Канарис вернулся из ставки. Там настроение крайне нервное, ибо все больше выясняется, что русский поход разворачивается «не по правилам». Учащаются признаки того, что война приносит не крах, а внутреннее усиление большевизма».
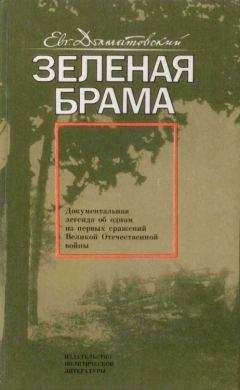



![Ричард Адамс - Обитатели холмов [издание 2011 г.]](https://cdn.my-library.info/books/49785/49785.jpg)
