Герои древневосточной словесности часто поставлены перед необходимостью сделать выбор: Гильгамеш должен выбирать между связанными с невероятными трудностями поисками цветка «вечной юности» и отказом от этих поисков; в 925 г. до н. э. молодой царь Рехабеам должен выбирать между советом «старцев» согласиться с требованиями северных племен об облегчении их бремени и советом «детей», т. е. юных соратников царя: «Итак, если отец мой обременял вас тяжким игом, то я увеличу иго ваше; отец мой наказывал вас бичами, а я буду наказывать вас скорпионами» (III Ц. 12, 14 и сл.) и т. д., — а ведь «главная функция личности это производить выбор действия» [98, с. 192].
Итак, что такое человек в представлении древневосточного человека? Человек — это двуединство физического и психического начал, причем в последнем растущее со временем внимание привлекает интеллект. Человек может иметь и имеет характер, вынужден делать и делает выбор, осознает свою «особость» и эту его «особость» признают также другие, вследствие чего древневосточный человек воспринимается личностью, индивидуальностью. Однако вышесказанным отнюдь не исчерпывается особенность восприятия древневосточным человеком самого себя, ибо в древневосточной модели мира человек, даже будучи личностью-индивидуальностью, нераздельно связан со всей данной человеческой общностью, воспринимается и осмысливается в сочлененность «я — мы».
* * *
Собственное «я» кажется человеку первичной и самоочевидной реальностью, однако в действительности оно является результатом весьма длительного и сложного процесса вычленения «я» из людской общности и еще более длительного и сложного осознания индивидом этой вычлененности. «Индивидуальное „я“ не имеет на ранних стадиях социального развития самодовлеющего значения и ценности потому, что индивид интегрирован в общине не как ее автономный член, а как частица органического целого, немыслимая отдельно от него» [66, с. 125]. Однако социально-историческое развитие человечества — прогресс процесса производства и возросшая значимость в нем индивидуального труда, усложнение социально-политической структуры общества и появление в нем множества разнообразных людских общностей и пр. — все это обусловливает неизбежный процесс автономизации индивида, что предполагает новую, гораздо более сложную взаимосвязь индивида с обществом. Всем развитым древневосточным обществам приходилось решать два вопроса — об отношениях между индивидом и обществом и об отношениях между индивидом и обществом, с одной стороны, и природой, с другой стороны; причем содержание даваемых ответов во многом определяло характер общества и его культуры [215, с. 189]. Эти ответы, как мы могли убедиться, не обладали постоянством, категоричностью, а видоизменялись и развивались с течением времени. Это относится и к разрешению вопроса об отношениях между индивидом и обществом. В длительном, постепенном процессе индивидуализации различимы две стороны — количественная, выражающая степень выделения индивида из людской общности, и качественная, показывающая, по каким признакам идет это выделение [66, с. 124].
В мрачном, пронизанном пессимизмом древнеегипетском «Споре разочарованного со своей душой» охватившее лирического героя безысходное отчаяние, столь глубокое, что
Мне смерть представляется ныне
Исцеленьем больного,
Исходом из плена страданья
[99, с. 99],
порождено главным образом разрывом уз, связывавших индивида с различными людскими общностями: с братьями, которые «бесчестны», с друзьями, которые «охладели», и т. д. С этим согласен также «автор» древнешумерской поэмы «О Невинном страдальце», признающий величайшим горем и злом нарушение связанности «я» и «мы»:
Мой товарищ не говорит мне ни слова истины,
Мой друг называет ложью мои правдивые слова
[68, с. 139],
а в древнеегипетском «Речении Ипусера» «земля перевернулась, подобно гончарному кругу», ибо «человек убивает братьев матери своей… убивают человека рядом с братом своим» и т. д. Разрыв, нарушение связи «я» и «мы» воспринимался древневосточным человеком как одно из величайших несчастий, наряду с этим «хороший человек находит свое место в жизни как член хорошего общества… благополучие и счастье отдельного лица взаимосвязаны со статусом его группы» [165, с. 263–271].
Связанность с «мы», принадлежность к этим «мы» есть непременное условие существования древневосточного человека. Поэтому уже в раннем древнеегипетском «Поучении Птахотепа» звучит совет:
Если ты склонен к добру, заведи себе дом.
Как подобает, его госпожу возлюби
[99, с. 96].
В нем едва ли можно усмотреть «индивидуализм» [165, с. 95 — 100], скорее наоборот, он выражает принципиальную установку на связь индивида с людской общностью, иным проявлением которой можно считать распространенный в древневосточном законодательстве принцип коллективной ответственности, встречающийся в законах Хаммурапи (§ 23, 126 и др.), в хеттских законах (§ 49 и др.) и пр. В ветхозаветном рассказе о греховных содомлянах утверждается принцип коллективной «заслуги», ибо Йахве обещает пощадить весь город, всех его жителей, если среди них найдется пятьдесят, сорок, тридцать, даже только десять праведников (Быт. 18, 20 и сл.).
Именно поэтому не только в средневековом, но и в древневосточном обществе «нормой и даже доблестью было вести себя, как все, как поступали люди испокон веков. Только такое традиционное поведение имело моральную силу» [32, с. 87–88], что подтверждается основной направленностью, главной идеей столь многочисленных и популярных на древнем Ближнем Востоке поучений. Древнеегипетское «Поучение Птахотепа» наставляет:
Ученостью зря не кичись!
Не считай, что один ты всеведущ!
[99, с. 95],
а в прелестном шумерском диалоге между отцом и непутевым сыном без конца повторяется мотив «уподобления, сравнения» с остальными членами своей общности: «Другие, подобные тебе, работают, помогают родителям… Старайся сравниться со своим старшим братом, старайся сравниться со своим младшим братом» [68, с. 29–30].
Однако не следует абсолютизировать этот правильный вывод, считать данную установку единственным на протяжении всей древневосточной истории решением дихотомии «я — мы». Иначе невозможно будет понять, почему с течением времени такие поучения множатся, почему в них все настойчивее звучат призывы «не выпадать из ряда». Эти призывы оформлены как «негативная мораль», т. е. как красочное и яркое описание того, чего не должно быть, — «выпадение из ряда». Писец Хори в египетском «Поучении Аменемопе» (XII в. до н. э.) обвиняет своего друга-соперника писца Аменемопе в невежестве, трусости, бахвальстве и других недостатках, что отличают его от нормы, представленной самим обвинителем, который «любим всеми людьми, прекрасен ликом и как полевой цветок в сердцах других. Нет такого, чтоб он не знал…» [161, с. 443]. Вавилонский «Разговор господина с рабом» представляет собой систематическую и последовательную релятивизацию общепринятых норм и установок — нормы жить семьей, нормы оказывать помощь, нормы быть как и все. По мере движения древневосточной истории — в реальности и в воспроизводящих ее текстах — растет вереница «выпадающих из ряда»: от Гильгамеша, отвергнувшего любовь Иштар и притязавшего на удел богов — бессмертие, до усомнившегося (хотя только на время) в божественной справедливости Иова, от порвавшего с тысячелетним многобожием фараона Эхнатона до порвавшего с нормативным йахвизмом основателя Кумранской общины — Учителя праведности.
В этом нарастающем «выпадении из ряда» проявляется набирающий силу процесс индивидуализации. Этот процесс находит выражение также в древневосточном законодательстве: принцип коллективной ответственности постепенно заменяется ответственностью индивидуальной, как в хеттском «Указе Телипину»: «Если же царевич провинится, то пусть он только своей головой искупит (вину). Дому его (царевича) [и] сыновьям его зла пусть не причинят» [30, с. 139; стк. 55–56] или в четком определении Иехезкеела: «Душа согрешающая, она умрет, сын не понесет вины отца и отец не понесет вины сына, правда праведного при нем и остается, и беззаконие беззаконного при нем и остается» (18, 20). Однако вот что показательно: несомненно нарастающая с течением времени индивидуализация сочетается не с послаблением, а с усилением требований к индивиду, понуждающих его действовать как все. Это подтверждается жесткой и все ужесточающейся нормативностью йахвизма, десятками законов и запретов, регулирующих поведение индивида. Примечательно, что особой непреклонностью отличалась нормативность как раз «выпавших из ряда» кумранитов, которые требовали не только неукоснительного выполнения всех ветхозаветных законов, но еще и дополняли их своими. Нарушение всех этих установлений сурово наказывалось: за сон во время собрания, за плевок на месте сборищ, за неуместный, громкий смех и т. д. члена общины отлучали от нее на разные сроки. Пример кумранитов демонстрирует сопротивление человеческой общности, «мы» (в данном случае — Кумранской общины) чрезмерной и, следовательно, опасной для этой общности степени индивидуализации.
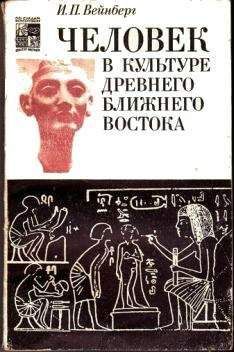




![Ричард Адамс - Обитатели холмов [издание 2011 г.]](https://cdn.my-library.info/books/49785/49785.jpg)