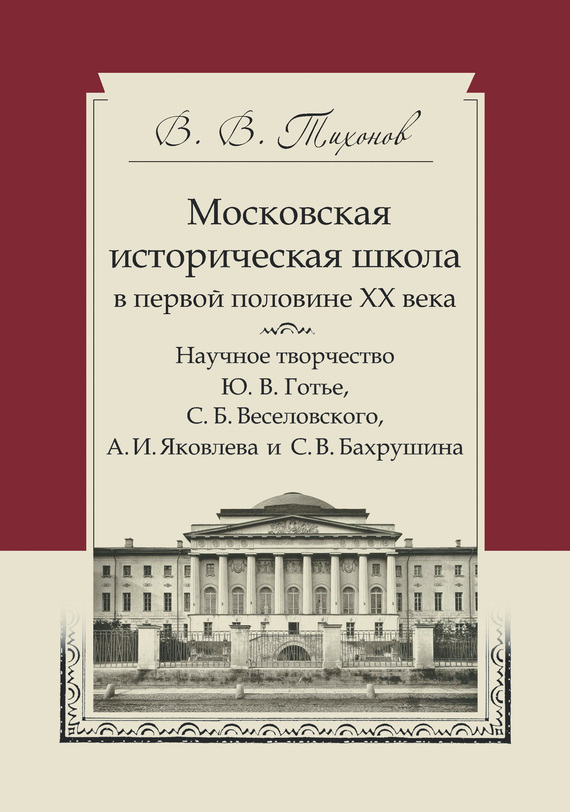Грекова хорошо передает замечание В. В. Мавродина в частном письме Н. Л. Рубинштейну: «Ты, пожалуй, не умничай. Если что-нибудь. скажет Греков — это будет точка зрения, а если ты, — то это будет ошибка» [372].
Высшие академические должности, непременное участие в редактировании учебников и монографий, множество учеников, поддержка официальных идеологов — все это привело к тому, что концепция Б. Д. Грекова превратилась в «нечто само собой разумеющееся». Его труды считались «марксистскими».
Другой пример — академик Василий Васильевич Струве. Его концепция древневосточного рабства стала, несмотря на свою шаткость и серьезные возражения со стороны авторитетнейших специалистов, официально признанной, поскольку прекрасно ложилась в формационную «пятичленку». За ее создание он был избран академиком АН СССР (1935), стал директором Института востоковедения АН СССР. Его биограф А. О. Большаков пишет о том, что историк не злоупотреблял своим положением [373]. Другую характеристику ему дает А. А. Формозов: «Увы, оказавшись в положении официального лидера, он показал себя человеком нетерпимым, подавляющим малейшие попытки самостоятельности у своих коллег. Крайне отрицательную роль сыграл он в судьбе крупнейшего ориенталиста И. М. Дьяконова, мешая его публикациям, не допуская до защиты докторской диссертации. В тени держал он и замечательного египтолога Ю. Я. Перепелкина. Московский египтолог К. К. Зельин, опубликовавший рецензию на учебник Струве, содержащую серьезные замечания, потерял возможность работать по избранной специальности и вынужден был заняться античностью» [374].
Безмерное влияние В. В. Струве показывает и следующий, анекдотичный случай. «На защите какой-то узбекской диссертации в Дубовом зале Института археологии с разгромными отзывами выступали оппоненты, ругали диссертацию и предлагали отправить на доработку. Председатель Струве, как всегда спал, проснувшись, он сказал: “Ну, вот и хорошо. Замечательная, талантливая работа. Будем голосовать!”. Голосование было единогласным — “за”» [375].
Ярким примером феномена патронажа являлась карьера И. И. Минца. Своему возвышению он во многом был обязан именно своим связям. В годы Гражданской войны он служил в коннице Буденного, познакомился с Ворошиловым. Возможно, именно они познакомили Минца с Горьким, который стал инициатором ряда масштабных историко-документальных проектов, среди которых была и история Гражданской войны. Именно Минц был назначен, при многочисленных высокопоставленных «свадебных генералах», реально руководить сбором интервью и документов, и подготовкой многотомного издания [376]. Постепенно вокруг себя он начал выстраивать собственную патронажную структуру зависимых от него историков.
В случаях с историками необходимо учитывать и еще одно явление. Дело в том, что историческая наука признавалась важнейшим участком идеологического фронта, а выпускники исторических факультетов часто оказывались на партийной работе. Их охотно использовали в учреждениях, ответственных за идеологию. Часто карьерная траектория менялась и партфункционеры возвращались в науку. Но связи оставались. Поэтому в случае с историками (думаю, мы вправе распространять это наблюдение на все гуманитарные и общественные дисциплины) можно наблюдать феномен «сращивания» профессионального сообщества и партийной элиты. Это явление требует специального изучения и осмысления.
Итак, послевоенная историческая среда являлась чрезвычайно неоднородной и потенциально конфликтной. Во-первых, продолжал тлеть конфликт между «историками старой школы» и историками-марксистами, вышедшими из эпохи 20-х гг. Репрессии, казалось бы, уравняли обе группы. Но разница в мировоззрении, менталитете и методологии исследования давала о себе знать. Во-вторых, система лидеров-монополистов, неизбежно возникающая в условиях централизации науки и при отсутствии альтернативных государству источников финансирования, являлась еще одним фактором конфликтных ситуаций. Например, амбициозный ученый, стремящийся занять ведущее положение в сообществе, неизбежно должен был устранить конкурентов. Это было невозможно без опоры на властные структуры. В-третьих, никуда не исчезли научные конфликты, когда возникал соблазн утвердить свою точку зрения при помощи навешивания на оппонента идеологических ярлыков.
2. Внутрикорпоративные конфликты в среде историков
На научных конфликтах стоит остановиться немного подробнее. Их изучение не только способствует объяснению причин борьбы тех или иных ученых друг против друга, но и показывает напряженность и неоднородность самой среды историков. К сожалению, конфликты как естественный и обыденный элемент жизни научного сообщества редко становятся предметом исследования [377]. Выше уже была упомянута концепция П. Бурдье, где конфликт является одним из ключевых элементов научной системы.
Любопытный подход к истории советской историографии попытался применить А. В. Савельев, интерпретировавший научную карьеру А. М. Панкратовой как конфликт части научного сообщества с участием партийных структур [378]. К сожалению, множество оценочных передержек, априорное осуждение, пропущенное через личное восприятие ряда героев исследования, да и просто элементарная научная несостоятельность книги фактически нивелировали имеющиеся там интересные мысли [379].
Конфликты пронизывали всю корпорацию, возникали практически во всех сферах социальной жизни историков. Они могли быть на личностном уровне (вражда двух историков), институциональном (соперничество институтов), групповом (между школами и группами). Особой формой являлся уже упоминавшийся конфликт партийных и беспартийных.
Конфликты длились годами и часто имели давние причины. Прежде чем перейти к исследованию идеологических кампаний, остановимся на ряде важнейших личностных конфликтах, содержание которых самым непосредственным образом проявилось в дни идеологических погромов. Одним из них является соперничество И. И. Минца и А. Л. Сидорова.
Пути в науке И. И. Минца и А. Л. Сидорова были схожими. Оба были слушателями Института красной профессуры, где учились у М. Н. Покровского, затем активно работали как преподаватели. Тем не менее, оба в 1920-е гг. принадлежали к конкурирующим «группировкам»: Минц был близок к Ем. Ярославскому, а А. Л. Сидоров все же к М. Н. Покровскому. Впрочем, А. Л. Сидоров старался сотрудничать и с Ярославским, что спасло его после исключения из партии. Карьера И. И. Минца была успешнее: он быстро занял ключевые посты в руководстве исторической наукой. А вот путь А. Л. Сидорова был извилистее: в 1935 г. он был даже исключен из партии, но в следующем году его восстановили [380]. По свидетельству А. А. Зимина, в этом ему помог Ем. Ярославский [381]. Когда дело А. Л. Сидорова рассматривалось в Центральном комитете комсомола, то на одно из заседаний пригласили И. И. Минца, как человека знакомого с ним лично, видимо, он должен был дать ему характеристику. Но И. И. Минц не пришел, что А. Л. Сидоров расценил как проявление трусости [382]. Давая оценку И. И. Минцу, он впоследствии писал: «Он оставлял впечатление человека, склонного вилять, говорить в лицо одно, и за глаза делать другое, личной храбростью и мужеством он не отличался, зато способность собирать своих людей, группировать их, поддерживать лиц определенной национальности несомненна» [383]. В 1940-е гг. И. И. Минц занимал практически монопольное положение в изучении истории советского общества. Он был академиком, возглавлял наиболее крупные исследовательские проекты, авторские коллективы учебных пособий. Его ученики