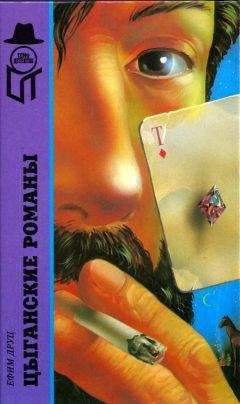Года через два я прочно позабыл эту историю. Я успел уже окончить пять классов народной школы в моем родном городке, мне было десять лет, и я был новоиспеченным воспитанником иезуитского интерната в Кальксбурге близ Вены - кадровой школы среднеи южноевропейского католицизма. Двери Кальксбурга не легко отворялись перед детьми буржуазного сословия: мне их открыла помощь старого покровителя моего отца графа X..бывшего питомца Кальксбурга.
В середине сентября 1934 года мы с отцом приехали туда на поезде. Я с трепетом переступил порог огромного здания конвикта, похожего на белый город без улиц, и остановился в освещенном высокими окнами коридоре, длиной, пожалуй, с километр. Где-то в дальнем его конце неслышными шагами расхаживали черные монахи. Коридор показался мне в тысячу раз длиннее нашего школьного, а ведь и тот был таким длинным, что я всегда чувствовал себя в нем затерянным.
Здешний коридор был высок, как неф собора, его стены обшиты коричневой деревянной панелью в рост человека, в простенках между дверьми и окнами висели изображения святых и картины сражений.
В коридоре было очень тихо, бесшумно, как на резиновых шинах, скользили по полу монахи. Мы вошли оробев, каждый шаг наш раскатывался грохотом, а ведь мы шли на цыпочках. Дверь, обитая кожей, открылась, и вышел монах, отец приблизился к нему с глубоким поклоном, монах ответил легким кивком, они пошептались, монах в черной рясе,, худой и согбенный, взял меня за руку и повел вверх по лестнице. Я очутился в высоком зале, который был похож на классную комнату, только окна были гораздо выше и доска гораздо больше, а парты гораздо приземистее, чем в моей старой школе, и в этом классе, большом, как зал, стоял высокий светловолосый монах, в толстых роговых очках. Человек, который привел нас, сказал, что это патер Корнелиус Шмид, который меня сейчас слегка проэкзаменует, и что бояться мне нечего, я могу быть совершенно спокоен.
Затем мой отец и монах вышли, а я остался в огромном помещении с патером Корнелиусом Шмидом, он снял очки, протер их и сказал: "Так, теперь мы посмотрим, как у тебя варит котелок, малыш", - и тут он ткнул меня пальцем в бок и подмигнул, и мне сразу стало весело. Я стоял у доски: считал, писал, называл даты битв и имена королей, патер сыпал свои вопросы все быстрей и быстрей, а я выхватывал из памяти ответы и бросал их ему, как в игре, и это была хорошая игра, но не успел я разойтись, как светловодосый патер улыбнулся и сказал, что достаточно. У меня вырвалось: "Уже все?" - и я вздохнул, а патер Шмид рассмеялся. Тут снова появился мой отец, он и смеялся, и плакал, и прижимал меня к груди, а потом мы пошли в канцелярию, огромную, как зал, где сидели два старых монаха, и отец подписал какую-то бумагу и отсчитал и выложил на стол очень много крупных ассигнаций, целый бумажник денег, и я гордился тем, что Кальксбург так безумно дорог и благороден.
Затем мы взяли такси и поехали в Вену. Я в первый раз в жизни ехал в настоящем автомобиле, и я запомнил, что в нем восхитительно воняло бензином, у меня даже закружилась голова, так восхитителен был этот запах. Я сидел рядом с шофером и глядел на зеленую холмистую равнину, пролетавшую мимо, и я был Джоном Диллинджером, королем гангстеров, который опять сбежал из тюрьмы и мчится теперь к своей банде, а за ним по пятам мчатся полицейские, они отчаянно стреляют из пистолетов, но автомобиль Диллинджера быстрее всех, а стекла пуленепробиваемы.
Мы приехали, отец заплатил шоферу, а потом мы сидели в сказочном зале из золота и хрусталя, грани которого сверкали всеми цветами радуги. Кельнер - на его черном фраке не было ни единого пятнышка, - склонившись, поднес мне на вытянутой руке блюдо из серебра, на котором в тридцати шести ячейках лежало тридцать шесть лакомых кусочков: сардины, и семга, и анчоусы, и розовые ломтики ветчины и мяса, свернутые в трубочки, украшенные тонюсенькими кусочками огурца и травками, - я не знал даже как они называются, - а на круглом ломтике поджаренного хлеба горкой лежали черные рыбьи яички, и отец сказал, что вот это я должен попробовать обязательно, это настоящая русская икра. Кельнер спокойно держал огромное блюдо на вытянутой руке и спросил: "Что угодно отведать молодому господину?"
Я застенчиво взглянул на спинку сардины, отец рассмеялся и положил мне на тарелку лакомства из двенадцати ячеек, а еще двенадцать ячеек опустошил сам. Я испугался, подумав, сколько это может стоить, но отец объяснил, что это знаменитое блюдо закусок, знаменитое блюдо знаменитого отеля "Захер", где мы теперь находимся, он сказал, что совершенно безразлично, возьмем ли мы из одной ячейки или опустошим все блюдо, это будет стоить одинаково, в этом-то и заключается самый шик. Я спросил отца, почему мы не завернули то, что осталось, чтобы взять с собой, но отец сказал, что это неприлично, это можно делать у нас дома, в трактире "У Рюбецаля *" [* Рюбецаль великан, персонаж немецких народных сказок.], но не здесь, в отеле "Захер" в Вене, где кушают графы, князья и министры, - весь цвет общества. Я украдкой огляделся по сторонам и увидел беседующих господ в смокингах и дам в шелковых платьях, со сверкающими кольцами, браслетами и цепочками, у одной на высокой , прическе был даже золотой обруч, и я взял себя в руки, чтобы не опозорить отца, и с адским напряжением следил, чтобы ни один кусочек не соскользнул у меня с вилки. Икра мне совсем не понравилась, она была маслянистая и соленая, но а съел ее, а отец сказал, что здесь все и в самом деле непозволительно дорого, но сегодня я заслужил все только самое лучшее. Он обнял меня за плечи и сказал, что я блестяще выдержал испытание: "Summa cum laude", с наивысшей похвалой, и такого способного ученика в интернате еще не бывало, сказал патер Шмид. Потом мы пили шипучее вино, и в бокалах дрожал свет люстры, а скрипки тихо пели свою неземную песнь. Я был совершенно счастлив, я сидел, позабыв обо всем на свете, среди золота и хрусталя, а отец говорил, что я ceLe и представить не могу, что значит стать воспитанником Кальксбурга. Сегодня передо мной открылись двери в высший свет, он перечислял, кем я могу стать, окончив Кальксбург: бургомистром, посланником, профессором, государственным советником, депутатом парламента, даже министром, сиятельным в кругу сиятельных, избранным среди избранных. Я смотрел на золото и хрусталь, на серебряные суповые миски и думал, что когда стану знаменитым человеком, прежде всего закажу себе визитные карточки, потому что у графа X. тоже есть визитные карточки с золотым тиснением, с короной и графским титулом, он всегда передает их через нашу служанку, когда заходит нас навестить, и это кажется мне необыкновенно утонченным и аристократичным.
- Выпускники Кальксбурга - это тесно сплоченный круг избралных, здесь каждый поддерживает и продвигает вперед другого, - рассказывал отец, а кельнер во фраке без единого пятнышка положил мне сочный кусок золотисто-коричневой говядины и приглушенным голосом пожелал мне приятного аппетита. И вдруг все переменилось.
До сих пор здесь было удивительно тихо, а теперь сразу стало шумно, шум и грохот ворвались в болтовню гостей и в пение скрипок, золотой зал задрожал от гула шагов и рокота голосов, толпа ритмично выкрикивала что-то, и возгласы эти были хриплыми.
Я вздрогнул, ножи и вилки звякнули о фарфор, но гости вокруг продолжали спокойно беседовать, словно ничего не произошло, а кельнер, улыбаясь, наклонился ко мне и сказал, чтобы я не пугался, что это всего-навсего босяки, оборванцы, должно быть, они вышли на демонстрацию. "Грязная банда!" - раздраженно сказал мой отец, а рокот голосов снаружи превратился вдруг в яростный рев, я услышал резкую команду, топот и треск. Я оглянулся и в испуге и с ужасом увидел, что они уже в зале, трое среди золота и хрусталя: изможденные лица, щетинистые подбородки, угрожающе сжатые кулаки. Застыв, я гляжу в зеркало в бронзовой раме - оно висит напротив окна - и сразу понимаю, это красные. Я никогда раньше не видел красных, у нас дома не было никаких красных, у нас были только честные, покладистые рабочие, которые, встречая отца, приветствовали его, как подобает, и уступали дорогу ему и всем людям его круга.
Кулаки взлетели в воздух. Я подумал о рабочих с фармацевтической фабрики отца: об Вютеке Антоне, и Хеллере Фритцле, и Машке Анне, и об остальных шести, невозможно было себе представить, чтобы они стали сжимать кулаки, кричать на улице и бунтовать, как эти подонки красные, которых давно следовало бы повесить вниз головой (так всегда говорил мой отец, разъясняя нам за обедом политическое положение). И я с негодованием подумал: да как они вообще смеют сжимать кулаки и орать, и почему полиция, которая только теперь появилась в зале, не запрет их всех в тюрьму?
И вдруг все кончилось, снова стало тихо, как и прежде, негромко журчали голоса, дама с золотым обручем улыбалась какому-то господину, а зеркало в бронзовой раме напротив окна отражало спокойную улицу в мягком свете. Отец подтолкнул меня: "Ешь, - сказал он, - не то ростбиф совсем остынет". Я ел, но вкус у мяса был уже совсем не тот, и я прислушивался, не раздадутся ли снова крики на улице, и я жалел, что прозевал минуту, когда можно было на улице или, на худой конец, здесь у окна посмотреть прямо в глаза красным, и я машинально повторил слова, которые отец говорил всегда, заканчивая свои рассуждения за обедом: "Фюрер скоро наведет в стране порядок". Я думал, что отец согласится со мной, но он наступил мне на ногу и зашипел, чтобы в Кальксбурге я не смел говорить про Гитлера, Австрия за Дольфуса, и, кроме того, очень возможно, что фюрер и в Германии не победит. Когда я удивился и спросил: "Почему?", отец ответил, что все зависит от выборов, что этого я еще не могу понять и пойму позже.