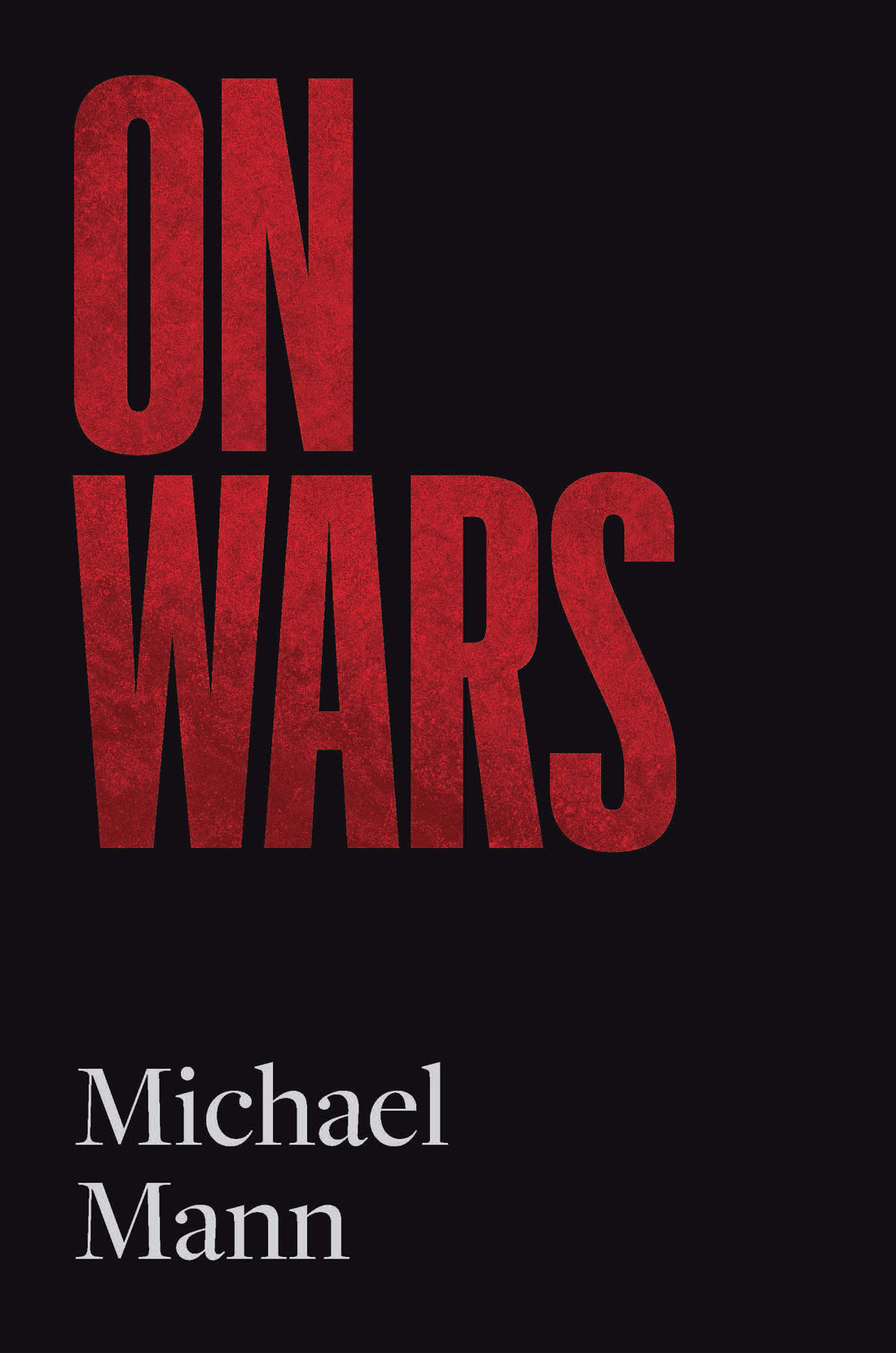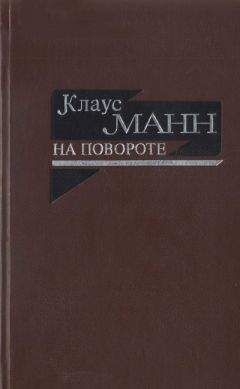такие противоречия нельзя уничтожить, но можно сгладить. И поскольку либеральное государство выступает посредником между конфликтными группами, то оно является ограниченным государством с урезанными и немногочисленными полномочиями. Либерализм сдерживал и национализм и этатизм, поэтому классы и нация тесно переплелись в своем развитии.
К классовым вопросам быстро добавились возрастные и гендерные. Только лишь глава семьи обладает полными гражданскими правами? В каком возрасте человека можно считать взрослым и самостоятельно мыслящим? Женщина какого возраста и сословия может считаться полноценным гражданином? Так возникли ограничения второго порядка. Сословие, возраст и пол разделяют людей, но в редком случае приводят к общественной сегрегации. Люди, объединенные или противопоставленные по этим признакам, живут, работают, любят и ненавидят вместе. Даже во время жестоких классовых конфликтов рабочие и их наниматели не были разделены китайской стеной. Люди разного возраста, женщины и мужчины живут вместе, создают семьи. Хозяева роскошных особняков и жители трущоб так или иначе зависят друг от друга. Эта взаимозависимость гасит естественную враждебность между элитарным «мы, народ» и сословными, возрастными и гендерными группами, ущемленными в правах.
Сглаживание классовых антагонизмов стало важнейшим политическим достижением современного Запада, породившим либеральные, а потом социал-демократические государства. Классовая принадлежность, возраст и пол остаются источником конфликтов среди людей, но эти естественные противоречия решаемы и решаются в рамках общественных институтов и многопартийной системы. Либеральный капитализм не стремится упразднить эксплуатацию, поэтому угнетенные группы неизбежно будут предъявлять обществу все новые и новые требования. Конечно, социальные конфликты в условиях либерализма не решаются с помощью тактики «выжженной земли» и массового истребления непокорных. Но если вместо компромиссного решения на головы недовольных вдруг обрушивается железный кулак государства, это может привести к трагическим результатам. Набравший обороты маховик классовой борьбы порождает революции, как это случилось в Центральной и Восточной Европе (Mann, 1993, гл. 16–18). Победившая революция провозглашает органическим народом пролетариат (смотрите главу 11 настоящей книги).
К исходу XVIII столетия государства Северо-Западной Европы достигли обнадеживающих результатов: религиозные конфликты пошли на спад (мы рассказали об этом в предыдущей главе), либеральные и классовые институции начали размывать этническую сплоченность. С утверждением единой религии в этих странах ослабились и межэтнические конфликты. Они приобрели более светский, чем религиозный характер и утратили былую жестокость. Важное значение приобрел вопрос языка. Мы принадлежим к одной религии спасения, но мы можем говорить не только на одном языке, тем более если он не имеет сакрального статуса. Я могу выучить государственный официальный язык, чтобы добиться успеха в обществе. Овладев этим языком, я приобретаю новую этническую идентичность. На протяжении последних 500 лет в большинстве европейских стран стремились утвердить один язык в качестве государственного. Это привело к размыванию культурной идентичности этнических меньшинств. Европа становилась все более гомогенной по мере того, как исчезали локальные и региональные языки и культуры. Эта унификация была достигнута далеко не самыми свирепыми способами. В большинстве случаев насилие не выходило за рамки институционального принуждения.
Этот же процесс не миновал и социальные структуры. Так же, как и в Средние века, ассимиляция шла постепенно, захватывая одно сословие за другим, начиная с аристократии. Давайте вспомним судьбу Уэльса. Эта этническая территория была захвачена в XII и XIII столетиях английскими и норманнскими завоевателями. Вскоре в городах-сеттльментах обосновались английские поселенцы. Новые хозяева периодически запрещали валлийский язык, препятствовали смешанным бракам, не позволяли аборигенам занимать общественные должности. И все же эти репрессии были не столь целенаправленны и жестоки, как в Ирландии. Короли были счастливы иметь уэльских лучников в своем войске. Именно большой уэльский лук стал самым страшным оружием в битвах с французами при Креси и Азенкуре.
Начиная с 1400 г. Уэльс перестали считать чужеродной провинцией (в отличие от Ирландии), наоборот, в начале XVI столетия к валлийцам стали относиться как к верноподданной и даже консервативной провинции британского королевства. В 1509 г. английские поселенцы в Конуи, одного из уэльских городов, потребовали еще большего ограничения прав коренных жителей. «Можно ли помыслить, чтобы валлиец имел те же права, что и француз в Кале или шотландец в Бервике?» Курьез ситуации заключался в том, что петиция попала в руки английского короля Генриха VII, который сам по происхождению был валлийцем. В его правление взаимная ассимиляция уэльского и английского дворянства достигла высшей точки. Окончательное слияние Уэльса и Англии произошло при его сыне Генрихе VIII, который установил в стране единое законодательство, администрацию и язык. В Акте об Унии 1536 г. говорилось, что человек, владеющий лишь валлийским языком «не вправе занимать общественную должность и получать за службу какое-либо вознаграждение на земле Уэльса». Тем не менее этот акт не привел к возникновению организованной оппозиции, поскольку уэльские джентри с одобрением восприняли уравнение в правах с английским дворянством (Jenkins et al., 1997; Roberts, 1997; Smith 1997).
По всей вероятности, не менее 90 % населения владели лишь валлийским языком (даже в 1880 г. их было почти 70 %!). Эти люди законодательно были лишены права занимать публичные должности. Но они об этом никогда и не помышляли! Ведь и в самой Англии 90 % жителей находились вне политической жизни. Реальной властью располагали оставшиеся 10 %: знать, джентри, купечество, члены гильдий. Региональная элита прекрасно понимала значение английского языка — языка юриспруденции, науки, торговли. И те, кто стремился сделать карьеру, учили английский как второй язык. (Примерно то же самое происходит в мире и сейчас.) Валлийский начал умирать как язык государственный, оставаясь, тем не менее, языком бытового общения.
Институциональное принуждение Уэльса к английскому языку было и средством эксплуатации покоренного народа, и явным предательством уэльской знати. Берк констатирует «отречение высших сословий» от народной культуры, процесс, который шел во всей Европе в XVI-XVIII столетиях (Burke, 1978: 270–272). Богемская знать переходила с чешского на немецкий язык, образованные норвежцы учили датский, финны переключались на шведский язык и тому подобное. Уэльское дворянство находилось в иной ситуации: двуязычие, с одной стороны, помогало им занять достойное место среди английских элит и, с другой стороны, не разрушало их связи с коренной этнической группой. Тот же прагматизм демонстрировали и англичане. В 1563 г. Англиканская церковь признала — для того, чтобы обратить уэльсцев в протестантизм, необходимо перевести Библию на валлийский язык, единственный язык, понятный народу. Это решение впоследствии способствовало развитию национальной литературы. По мере того как средние и низшие классы обретали гражданские права как в Англии, так и в Уэльсе, английский язык получал все большее распространение. В XIX веке английский стремительно вытесняет валлийский на всех уровнях. До этого языковая ассимиляция затрагивала лишь высшие слои общества. Валлийский, в отличие от шотландского, не искоренялся насильственно, это был