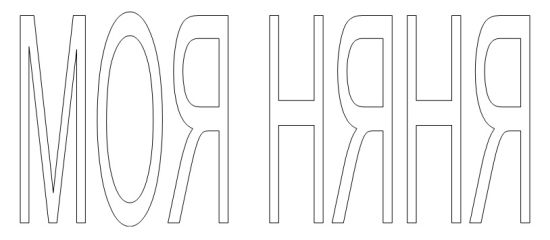Но это продолжалось недолго; вскоре исправник заподозрил в них пропагандистов; уже существовавшие тогда урядники начали следить за ними. По мере того как они приобретали опору, поддержку в народе, задетые интересы заговорили: поднялись помещики, приказчики, кулаки и мироеды; все начали шушукаться; пошли доносы. Защита большинства мира против эксплуатации зажиточным меньшинством, борьба с кулаками, отстаивание интересов рабочего против нанимателя и хозяина, тяжбы по крестьянским делам - все обличало их и наконец сформулировало обвинение в крамоле: революционеры-социалисты не признают права собственности, восстанавливают одно сословие против другого и т. д. С первого же месяца их положение сделалось шатким; исправник уже тогда хотел арестовать их, но старшины отстояли их. Позднее ни поддержка непременного члена присутствия по крестьянским делам Кострицына, ни защита предводителя дворянства Фролова, одобрявших защиту крестьянских интересов про-{160}тив всех и вся, не могли ничего сделать: продержавшись 10 месяцев, Писарев, Богданович и Лешерн, занимавшая должность бухгалтера ссудо-сберегательного товарищества, должны были уехать, чтоб не попасть в острог **.
______________
** См. воспоминания Иванчина-Писарева о его деятельности в народе.- А. И. Иванчин-Писарев, Из моих воспоминаний. "Каторга и ссылка" № 8-9, 1929.
Почти одновременно с устройством товарищей получила место и я в Петровском уезде. Вместе со мной поселилась моя сестра Евгения, только что сдавшая экзамен на фельдшерицу при саратовской врачебной управе. Председателем земской управы в Петровске в то время был Михаил Сергеевич Ермолаев, с женой которого, урожденной Унковской, мы сошлись скоро самым тесным образом. Наше появление в уезде вызвало сенсацию как в обществе, так и в народе. Петровское общество стало в тупик над вопросом: зачем мы при нашем образовании и положении "хороним" себя в деревне? С какой стати, для чего? *** На наше счастье, наши манеры и наружность не давали возможности окрестить нас нигилистками. Благодаря этому, а еще более скоро замеченной дружбе с председателем и его женой все вдруг залиберальничало, все двери раскрылись перед нами. Только предводитель дворянства Устинов, просидевший, как говорили, 6 лет в остроге и осужденный за уголовное преступление (убийство) на поселение, но прощенный, и непременный член Деливрон, признававший вредным для народа всякое знание, кроме знания нескольких молитв и перечня лиц царствующего дома, тогда же громогласно заявили, что это неспроста, что за нами надо "смотреть в оба". Того же мнения оказался и вязьминский волостной писарь князь Чегодаев, разорившийся потомок, достойный отца, сосланного в Сибирь за то, что до смерти засек крепостного человека. Этот князь, бок о бок с которым {161} мне пришлось жить, так как я была назначена в село Вязьмино, в первый же день после наблюдения над тем, как я принимала больных, сказал знаменательную фразу: "Новые люди приехали к нам".
______________
*** В противоположность этому некультурный народ, которому известно, что человек имеет не одни только материальные потребности, тотчас же нашел возвышенное объяснение для нашего поведения, сформулировав его словами "для души". Вкладывая свой смысл в эту формулу, он вместе с тем говорил, что душевная потребность руководит нашими поступками.
При таких предзнаменованиях мы принялись за дело. Для крестьян появление фельдшерицы, лекарки, как они выражались, было диковинкой. Мужики шли к попам для разъяснения, для всех ли я приставлена или только для баб. После разъяснения меня осадили пациенты. Бедный народ стекался ко мне, как к чудотворной иконе, целыми десятками и сотнями; около фельдшерского домика стоял с утра до позднего вечера целый обоз; скоро моя слава перешла за пределы трех волостей, которыми я заведовала, а потом и за пределы уезда. Не стесняемая надзором доктора, которого все время в моем участке не было, и получая непосредственно из управы от председателя столько медикаментов, сколько мне было надобно, я, быть может, помогала потому, что давала лекарства в надлежащем количестве; какая-нибудь несчастная баба шла ко мне пешком за 60-70 верст, страдая кровотечением; возвращаясь, она рассказывала, что, как только я прикоснулась к ней, кровотечение остановилось; другие привозили воды и масла, прося меня "наговорить" на них, так как слышали, что я хорошо "заговариваю" болезни; ко мне приводили седых как лунь стариков, 15-20 лет тому назад потерявших зрение и чающих перед смертью увидеть при моей помощи свет. Народу было в диковинку внимание, подробный расспрос и разумное наставление, как употреблять лекарство. В первый месяц я приняла 800 человек больных, а в течение 10 месяцев - 5 тысяч человек, столько же, сколько земский врач в течение года в городе, при больнице, с помощью нескольких фельдшеров. Если я помогла одной десятой из этих 5 тысяч человек, то за мои прегрешения они вымолят мне прощение у самого жестокого Иеговы. Этот громадный труд, конечно, был бы мне не по силам, если бы сестра Евгения не разделяла его со мной.
Вскоре нам удалось открыть школу. Евгения заявила крестьянам, что она возьмется даром обучать детей, пусть только присылают их: все учебные пособия {162} у нас есть, отцам не придется покупать ни азбук, ни бумаги, ни перьев. У нее сейчас же собралось 25 человек учеников и учениц. Надо заметить, что во всех трех волостях моего участка не было ни одной школы. Когда жители села Ключевки, бывшие крепостные Устинова, выразили ему желание устроить училище, тот отсоветовал им как вещь несвоевременную и дорого стоящую. Некоторые из учеников были привезены к Евгении из других сел и деревень иногда верст за 20. Кроме учеников маленьких были и взрослые, некоторые мужики просили заниматься с ними арифметикой, необходимой для всевозможных мирских и волостных {163} учетов. Скоро сестра при
Евгения Фигнер 1877-1878 годы
обрела лестное название: "наша золотая учительша".
Покончив занятия в аптеке и школе, которая помещалась в том же фельдшерском домике, мы брали работу, книгу и шли "на деревню" к кому-нибудь из крестьян. В том доме в этот вечер был праздник; хозяин бежал к шабрам и родственникам оповестить их, чтобы и они пришли послушать. Начиналось чтение: в 10-11 часов хозяева все еще просили почитать еще. То были Некрасов, некоторые вещи Лермонтова, Щедрина, иногда статья толстого журнала, рассказы Наумова, Левитова55, Галицинского, некоторые вещи по истории и т. д. Книг, доступных для народа, было так мало, что опытный в этом деле Иванчин-Писарев на мой вопрос мог рекомендовать мне суворинские: "Земля и народы, ее населяющие", "Земля и животные, на ней обитающие", и только. Каждый раз приходилось говорить об условиях крестьянской жизни, о земле, об отношениях к помещику, к властям: входить в крестьянские нужды, выслушивать их сетования, надежды; сочувствовать их горю, разделять симпатии и антипатии. Иногда просили оставить книгу, чтобы еще раз прочесть понравившееся место или даже заучить его; приглашали прийти на сход, чтобы обличить кляузы писаря, его взяточничество, мошенничество старшины, чтоб защитить мир. Евгению все прочили в сельские писаря, обязанности которого тогда совмещал в себе Чегодаев, ненавистный мужикам; просили приходить на волостной суд и вообще почаще заглядывать в волостное правление, чтобы не давать писарю возможности ругаться, сквернословить, гнать мужиков в шею. "Он вас стыдится",- говорили крестьяне. Когда было наконец пора идти домой, то, прежде чем выйти от хозяев, каждый раз мы должны были дать торжественное обещание сделать детей их такими же "письменными", как мы сами.
Такая жизнь, такое отношение к нам простых душ, чающих света, имели такую чарующую прелесть, что мне и теперь приятно вспомнить ее: каждую минуту мы чувствовали, что мы нужны, что мы не лишние. Это сознание своей полезности и было той притягивающей {164} силой, которая влекла нашу молодежь в деревню; только там можно было иметь чистую душу и спокойную совесть, и если нас оторвали от этой жизни, от этой деятельности, то в этом были виноваты не мы.
Как подобает "новым" людям, мы старались вести жизнь самую простую. Не роскошь - тень роскоши была изгнана из нашего домашнего обихода; мы не употребляли белого хлеба, по неделям не видали мяса; каждый лишний кусок становился нам поперек горла среди общей бедности и скудости. Из 25 рублей жалованья, которое я получала, мы проживали 10-12, включая и плату женщине, которая вела наше скромное хозяйство. Нечего и говорить, что мы совершенно изгнали крестьянские приношения деньгами и натурой, столь обычные в деревне. Когда какая-нибудь бедная баба приносила свой скромный подарок - пару яиц, то, чтоб не показаться гордой, я принимала их и совала ей в руку мелкую монету, и так как я говорила: "Годится на свечи", т. е. на ее религиозную потребность, то не было случая, чтоб плата отвергалась.
Совестно выговорить, что жизнь, которая казалась нам естественной и должна бы назваться нормальной, была диким, раздирающим диссонансом в деревне; она нарушала ту систему хищения и бессовестного эгоизма, которая, начинаясь миллионами у подножия трона, спускалась по нисходящим ступеням до грошей сельских обывателей.