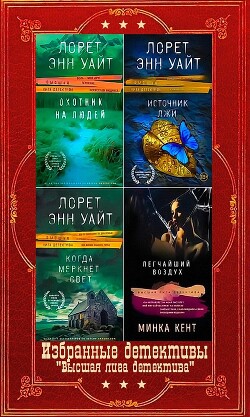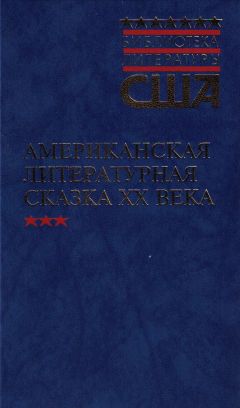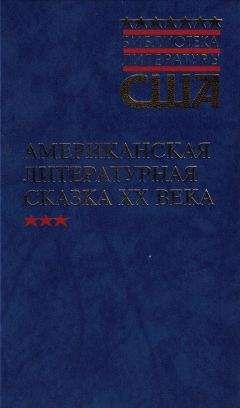поднимает ее и ставит обратно на стол.
«Все не так плохо, ведь это не очень далеко, и мы хотя бы знаем, куда едем».
Но никто не может заснуть, ночь разбилась вдребезги… для живых, которые следуют приказу и отправляются в путешествие, сна больше не существует, ведь они должны от всего отказаться… Таков приказ, и главному управлению нет никакого дела до того, что случится, когда люди, которым запрещено оставаться дома, покинут выпотрошенные жилища. Приказы отдаются без колебаний, ведь на бумажке написано: «Вам воспрещается…».
Леопольд, вы должны покинуть свой дом, и Ида должна пойти с вами. Не имеет значения, что у вас искалечены руки и ноги, на улице сухо и погода сейчас ясная. Так что собирайтесь, вам больше негде прятаться… Идите и насладитесь поездкой на трамвае от Ступарта, потому что в этом доме не осталось ничего, что принадлежало бы вам. Это облегчает прощание. – Но это был наш дом. – Нет, он никогда не был вашим, ничего в этом доме не было вашим. Вы все это прибрали к рукам, ведь вы заплатили за это деньгами, которые вам не принадлежали; благодаря взяткам вы смогли наслаждаться удобствами этой квартиры. Всеми четырьмя комнатами, темной прихожей, кухней, жилыми помещениями, ванной и туалетом. Отрезанные от внешнего мира, вы прятались за массивной дверью с шатким засовом, с задвижкой и цепочкой, чтобы подавить свои страхи, и с прикрытым дверным глазком, за которым таились угрызения совести. Вы поднимались вверх и вниз по лестнице так, словно вам не за что было винить себя, когда вы находились не рядом с награбленным. (A Journey. P. 12–13)
Весь этот отрывок можно рассматривать через риторическую фигуру кеносиса 179 – вычитания того, что было отличительными признаками вещи. Я выделил курсивом отрывок, посвященный вере и невероятному, потому что он вводит новую тему, которая будет развиваться на протяжении всего романа. Как же понимать этот отрывок?
Последние слова из введения Фридлендера к «Годам истребления» звучат так: «Цель исторического знания – приручить недоверие, объяснить все так, чтобы оно исчезло. В этой книге я хочу предложить тщательное историческое исследование истребления евреев в Европе, не уничтожая и не приручая это изначальное чувство недоверия» (The Years of Extermination. P. XXVI). Это утверждение озадачило некоторых рецензентов книги Фридлендера: зачем кому-то уничтожать или приручать это «изначальное чувство недоверия»?
Используемые мной словари определяют «недоверие» (disbelief) как активный отказ от веры, противопоставляя его безразличному отношению к вере, которое обозначается словом «неверие» (unbelief). Я думаю, под недоверием (disbelief) Фридлендер подразумевает нечто вроде «изумления» при столкновении с чем-то совершенно неожиданным и пугающим. Для того чтобы понять, как он использует понятие «недоверия», можно обратиться к психоаналитическому понятию «отрицания». Столкновение с событием, последствия которого выходят далеко за пределы той области, где оно изначально произошло, и угрожают культурному я-идеалу, который смягчает даже личные неудачи, вполне может вызвать реакцию «недоверия». Фридлендер говорит о недоверии к информации о том, что преступники сделали со своими жертвами, а не о недоверии к страданиям жертв. «Я не смог бы такого сделать. Следовательно, не только я, никто этого не делал». Такого рода отрицание свидетельствует об осознании того, что в ходе «Окончательного решения» происходили одновременно «обыкновенные» и «невероятные» вещи (The Years of Extermination. P. XXVI). «Свидетельский крик ужаса, отчаяния или необоснованной надежды» вполне может «вызвать эмоциональную реакцию у нас самих и пошатнуть наши прежние хорошо защищенные репрезентации экстремальных исторических событий», и наша реакция отрицания (или недоверия) – это способ подтвердить наши прежние представления о том, «как все обстоит на самом деле». Но только в том случае, если мы распознаем это чувство недоверия, мы сможем избавиться от своих изначальных предрассудков и предубеждений и заменить их четким представлением о том, «как все обстоит на самом деле». Наука – один из способов, позволяющих получить такое четкое представление, но есть и другой и, как я утверждаю, более эффективный способ – искусство. Дело в том, что поэтическое/художественное произведение воздействует на все наши органы чувств. При встрече с произведением искусства мы не можем не замечать, что вера и неверие, восприятие и представление, истина и ложь, реальность и вымысел переплетены между собой. Поэтому, когда Фридлендер берет в качестве эпиграфа к части 1 «Ужас» фразу: «Садистская машина просто переехала нас» – из дневника Виктора Клемперера, он не просто говорит, что Клемперер нашел подходящую фигуру, чтобы обобщить то, о чем пойдет речь в разделе «Осень 1939 – лето 1941». Он также указывает, что для последующего изложения не подходит идиома «обычной историографии». Эти события настолько необычны и невероятны, что им можно отдать должное только посредством идиомы, которая может совместить веру и неверие в одном образе.
Руководящим образом шедевра Фридлендера является не понятие, а фигура: истребление. Теперь мы будем использовать это слово для обозначения того, что до этого называли «Окончательным решением», «Холокостом», «Геноцидом» и «Шоа».
Поставить вопрос: Den Holocaust erzählen? («Можно ли представить Холокост в форме нарратива?») – значит столкнуться с проблемами эстетизации и фикционализации исторических событий и этическими проблемами репрезентации того, что профессор Сол Фридлендер называет «экстремальными событиями». Экстремальный характер Холокоста связан с предпринятыми в ходе «Окончательного решения» «мерами» по уничтожению целых народов, считавшихся недостойными права на существование. Самым ярким примером осуществления подобной политики считается судьба европейских евреев. Если глагол erzählen (нем. рассказывать) используется в своей «художественной» коннотации «повествовать» (to narrate), тогда вопрос: Den Holocaust erzählen? — призывает к размышлению о том, какой жанр или модус речи или письма подойдет для «правильной» репрезентации события, которое стало, мягко выражаясь, позором для западноевропейской культуры и общества.
И здесь мы сталкиваемся не с вопросом историка о том, «что на самом деле произошло» во время Холокоста. Мы имеем дело с огромным ударом, которое это событие нанесло по гордости нашей «просвещенной» культуры, и желанием многих людей представить это событие как атавизм или отклонение в европейской культуре. Они утверждают, что его не должно было случиться и что ответственность за него лежит на сборище преступников и отбросов, которые не имеют ничего общего с добропорядочным и просвещенными людьми, христианами и гуманистами, сделавшими Европу лидером мировой цивилизации.
Конечно, можно изучать Холокост «исторически», при этом не ставя себе целью написать историю об этом событии и не претендуя на то, чтобы обнаружить «истину», погребенную в документальных свидетельствах и обломках Второй мировой войны. Изучать событие исторически – значит стремиться поместить его в изначальный контекст, соотнести его с тем, что